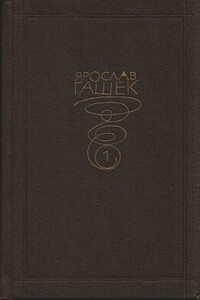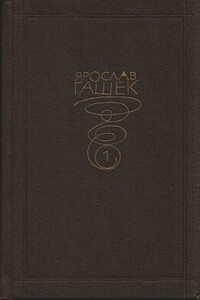Ярослав Гашек
Три очерка о венгерской пусте
Над равниной у Тисы спускался вечер. За кукурузным полем горели костры — сторожа и табунщики пекли на углях свой ежедневный однообразный ужин: початки кукурузы.
Ветер доносил из недальней деревни буйный напев старинной разбойничьей песни: «Nem loptam en eletemben»[1].
— Весело в корчме-то, — подал голос парень в замызганных штанах, сидевший у ближнего костра, и неторопливо вытащил из золы дочерна испекшийся початок. — Прямо не поверишь, до чего все хорошо слыхать, — он стал грызть початок. — К тому ж там нынче свадьба, то-то и весело.
— Рендёр берет Иштванову дочку Марку, — заметил его сосед, старый табунщик. — И не грустно тебе, Лайко?
Парень вытащил из огня еще один початок и, обгладывая его, произнес:
— Чего грустить-то? Подумаешь…
— А говорят, Лайко, любил ты Марку, — сказал кто-то, сидевший у соседнего костра.
— Ну, любил, и что такого, — спокойно возразил Лайко, подбрасывая хворосту в огонь. — А теперь делу конец.
— И не злишься на Рендёра, что Марку у тебя увел? — спросил старик.
— Как не злиться? Сволочь он, Рендёр, — тем же невозмутимым тоном сказал Лайко, пережевывая зерна.
— И не сотворишь над ним чего? — допытывался старый.
— Отчего ж не сотворить? — Лайко уставился на огонь, озарявший красноватым светом высокую, колыхавшуюся на ветру кукурузу. — Очень даже легко могу сотворить.
— А что, к примеру? — не отставал старик.
— К примеру, убить могу, — зевая, ответил Лайко,
— Так и убил бы?
— А чего ж не убить? — Лайко привольно растянулся у костра так, чтобы дым не ел ему глаза.
В деревне зазвонил колокол, а пение смолкло.
— По покойнику звон, — тихо заметил старик. — Кто ж это помер?
А это теперь Рендёра нашли у колодца за околицей, проговорил Лайко, не отводя взгляда от огня.
Это как же?
А так, что час назад я ему череп топориком раскроил, равнодушно объяснил Лайко, поворачиваясь на другой бок. — Спокойной ночи.
Но равнине разносилось: бим-бам, бим-бам…
Взошла луна, багровый шар все явственнее выступал из мглы, бледнея, и вот уже белым светом залило степные травы.
Цыган Барро следил за восходом луны. Он стоял, то покачивая головой, то кивая: луна поднималась все выше и выше, и казалось, цыган вполне ее одобряет.
Давненько не видел ты этого, — промолвил молодой цыган, сидевший рядом на земле, — В тюрьме ты на небо не смотрел.
— Да, отсидел-таки три месяца, — ответил Барро, не сводя глаз с луны.
— А чего ты так на нее смотришь?
— Думаю, — медленно произнес Барро. — Сначала был большой шар, потом красный цвет побледнел, и шар стал совсем белый.
— Хотел бы я быть месяцем, — проговорил молодой цыган, — Плавал бы там, наверху, и никто бы меня не поймал,
— А я ходил бы среди звезд да смотрел вниз, на жандармов, — задумчиво произнес Барро.
— И они казались бы маленькими, — решительно сказал его молодой товарищ, — такими маленькими, что и не разглядишь.
— И они не могли бы разглядеть нас, — подхватил старший, — и жил бы я спокойно, бегать не надо было бы.
— Разве ты бежал из тюрьмы?
— Да видишь ли, — доверительно сказал Барро, — нынче утром удрал я из города, и вот я в степи. Три месяца отсидел, а еще девять сидеть не захотелось. Теперь самое подходящее время: крестьяне убирают кукурузу, в деревнях ни души.
— Смотри, как звезды дрожат, — перебил его молодой цыган, подняв лицо к небу.
— Дрожат — это у них вроде землетрясения, — серьезно пояснил Барро. — А видишь месяц, он уже белый, смотри, облака проходят по нему, как будто он плывет, а сам стоит на месте.
— Хотел бы я очутиться на месяце, — в раздумье проронил молодой цыган. — А за что тебя схватили?
— За коня, вернее, это был жеребенок, — ответил спрошенный, — Видишь ту яркую звезду, а там вон — красную?
— Вижу, но скажи, тебя не били там, в тюрьме?
— Били, но немного; смотри, месяц выплыл из облаков.
Из высоких трав вдруг вынырнули два штыка, и в следующее мгновение Барро лежал на земле с наручниками на запястьях, а над ним склонялись свирепые лица жандармов. Молодой цыган исчез.
В лунном свете посверкивали штыки жандармов, когда Барро в наручниках шагал между ними к городу по широкой безмолвной степи.
А в городе, когда судья спросил, как его поймали, Барро сказал:
— Месяц задержал, вельможный пан.
— Как месяц?
— Да вот всходил месяц, я и задержался.
III. НА ОТХОЖИХ ПРОМЫСЛАХ
Пришли на равнину к полевой страде, пришли с высоких гор,[2] поросших елями да причудливо раскидистыми соснами, из лесов пришли, где шумят горные речки и пахнет смолой да хвоей — нашли здесь, правда, обживу, которой не давал им их прекрасный край, зато плоской, как стол, была здешняя земля, и пахло болотной гнилью, и росла вместо деревьев высокая, пожелтевшая от солнечного зноя трава, да кукуруза, кукуруза, куда ни глянь.
И вместо благозвучной родной речи их слышался вокруг чужой говор, похожий на ржание коней да на крики больших птиц, что кружат вечерами над вонючими водами.
Там, дома, им нечего было есть, кроме черного хлеба из отрубей или из ржаной муки, здесь они ели мясо, но ночами, когда укладывались они вокруг костров, мерещилось им, будто они дома; видели свои развалившиеся лесные хатки, пили воду горных речек и жевали черный хлеб…