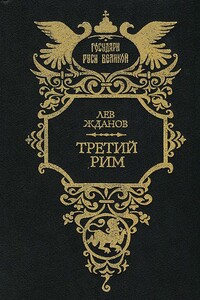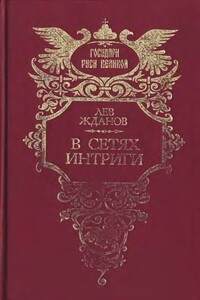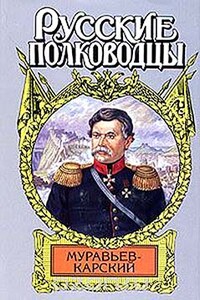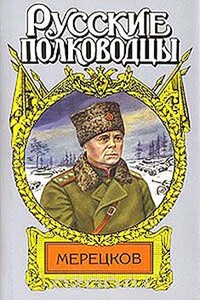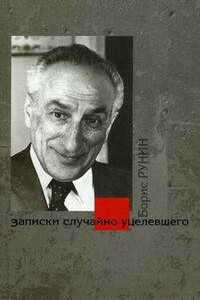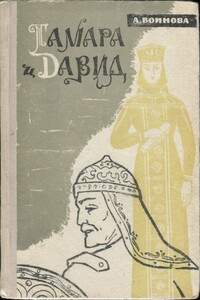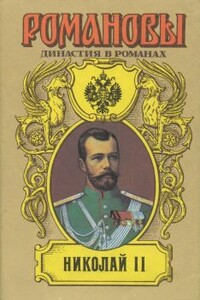Глава I
ГОД ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА 7034-й (1526)
Чудный осенний день почти на исходе. С ясного, прозрачно-синего неба ветер согнал последнюю тучку из их несметного полчища, которое чуть ли не две недели скрывало сияющий лик солнца от земли. И теперь лучи его — ласковые, нежащие — не жгут, как летом, только пронизывают всё: и поределую листву дремучих лесов, которые с северо-запада подбежали почти к самым стенам дивно обновлённого древнего града Москвы, и ветви одиноких, старых дерев, которые кудрявятся в тенистых садах. А сады с огородами обступают повсюду обширные боярские жилища в самом Кремле и дома посадских да торговых людей. Посады эти московские широкой, тёмной, неправильной полосой деревянных строений обежали, словно подковой обогнули, Кремль и легли вокруг твердыни, высоко поднимающей теремные и бойничные башни и золочёные главы церквей на крутом прибрежном холме. Золотыми, тонкими стрелами сыплются с неба лучи, пронизывают сквозные бойницы башен крепостных и узкие оконца церковных куполов, осеняющих новые белокаменные храмы московские. То загорится блик света на кистях красной, спелой рябины, что перекинулись, свесились через садовый забор, над грязной колеёю, в переулочке узком, и без ветерка колыхаются, ждут лишь первых заморозков, чтобы «дойти»… То скользнёт лучом своим солнце и отразится в широкой подорожной луже, блестящей и гладкой, как зеркало, не взбаламученной сейчас ногами прохожих или рябью от ветерка… И загорается зеркальная лужа, а зайчики от неё играют на соседней тёмной и мшистой стене и на тёмных дуплистых стволах. Это липы столетние, как часовые, стоят в соседнем саду за надёжным тыном, за палями острыми.
Даже в мрачные извороты и закоулки торговых рядов ухитряются заглянуть осенние ласковые косые лучи в этот предвечерний час…
И среди затихающего торгового гомона и говора, среди суеты человеческой, которая так и кипит всегда в проходах между ларями, лавками и палатками, чем-то чистым и неземным отблёскивают заблудившиеся золотистые нити лучей, скользящие по выступам бревенчатых строек, по щелистым рядам дощатых балаганов.
Усталые, мрачные или озлобленные лица людей, на которые падают ненароком лучи, сразу светлеют, словно проясняются внутренним светом. Морщины сглаживаются, брови распрямляются; невольно перестают хмуриться и торжники, и смерды, и господа, — всякого звания люди, — и с улыбкой произносят:
— Эка… и денёк же нынче выдался… краше летнего!
Словно воспрянув силой и духом, живее берётся каждый за ту же работу, которую так вяло выполнял за минуту перед тем, лишь бы довершить обычный дневной свой урок.
Особенно щедро осыпан лучами, обогрет теплом высокий детинец московский.
Радостно сияют золотые главы церквей… Высокие звонницы облиты солнцем…
И печально, мерно несётся с этих звонниц какой-то необычайный, словно похоронный перезвон.
Заслыша редкие, протяжные удары тяжело гудящих больших колоколов, москвичи кто просто осеняет себя широким крестом и шепчет:
— Помилуй и спаси, Господи… защити достояние Твоё!
Другие же обращаются к знакомым и незнакомым с тревожным вопросом:
— Что прилучилось? Али негаданно помер кто на княжом дворе?..
— Помер?.. Не помер, а всё едино; даже хуже… Постриг великой княгине дают… Ай не слышал?.. Не тутошний?..
— Не! Слыхать-то слыхал… Да всё не верилось!.. — отвечает вопрошающий и молча, тоже осенив себя крестом, проходит дальше.
Во всех кремлёвских церквах — соборных и монастырских — началось служение. В набегающих сумерках, под сводами храмов причудливо сверкают бледные, призрачные сейчас огни паникадил и лампад и свечей у киотов… Где в окна сильнее ударяет свет погасающего дня, там огни, зажжённые руками людскими, кажутся совершенно умирающими, бесцветными, беспламенными. Только в более тёмных углах, в приделах, за колоннами багровое пламя светилен бросает трепетные полосы света и теней на всё вокруг: на золотое и серебряное сияние венчиков у икон, на дорогие самоцветы и молочно-белую низь жемчуга, обрамляющего тёмные лики вместо окладов.
Душно, мрачно… и полутьма царит в обширной горнице, где совершается пострижение во инокини великой княгини Соломонии, двадцать долгих лет безупречно и мирно прожившей с великим князем Василием Ивановичем всея Руси.
— «Неплодную смоковницу — посекают и измещут из вертограда!» — изрёк покладливый митрополит Даниил, а за ним всё духовенство и весь синклит боярский.
Попы и бояре знали, что если властительный Василий спросил их совета в таком важном и близком ему деле, как развод, то, значит, заранее решил, понял неотложность и необходимость этого поступка и только согласия требует, а не ждёт возражений ни от кого.
Отговорить князя?
Пожалуй, оно и можно с умом. Да кого-то ещё из братьев княжих после смерти Василия нанесёт на трон?
Андрея ли, Юрья ли — оно, пожалуй, всё равно. У каждого своя дружина, свои отцы духовные…
Там что-то ещё будет впереди, а боярам Васильевым и митрополиту Даниилу вовсе не плохо живётся теперь, хоть и крутенек порою князь.
Объявленный наследник — брат — сейчас же, конечно, начнёт мешаться во все… А при том повороте дела, какой сам князь надумал, когда-то ещё новая свадьба, когда-то ещё Бог сына пошлёт!.. И пойдёт себе покуда всё по-старому, по-бывалому…