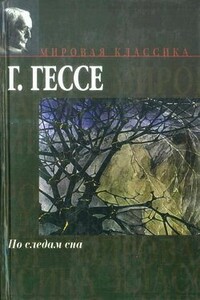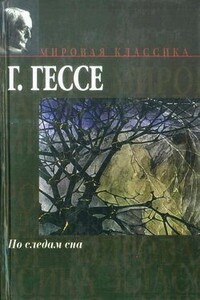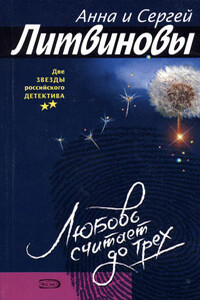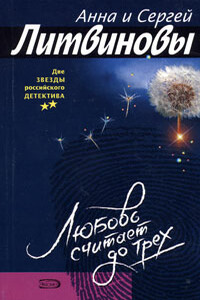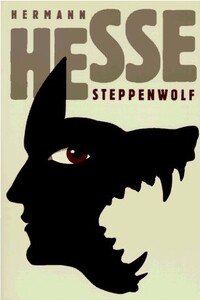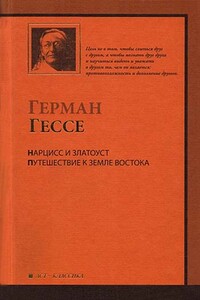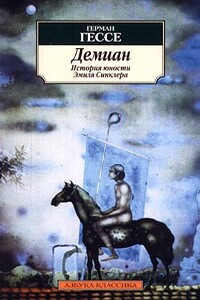Когда главному редактору доложили, что в приемной уже примерно час дожидается наборщик Иоганнес и что его никак не удается отговорить от намерения встретиться для беседы или прийти к шефу в следующий раз, он лишь кивнул с улыбкой, слабой и меланхоличной, и повернулся на своем вертящемся стуле навстречу входящему. Он заранее знал, какие заботы привели к нему верного седобородого ручного наборщика, знал, что заботы эти дело столь же безнадежное, сколь сентиментальное и скучное, что выполнить желания этого человека он не сможет, как не сможет оказать ему и никакой другой любезности, кроме одной: выслушать его с приличествующим случаю видом; и так как проситель, много лет проработавший в газете ручной наборщик, был не только симпатичным и достойным человеком, но и человеком образованным (не в столь уж давние времена он считался весьма заметным, едва ли не знаменитым писателем), во время его визитов, которые, как показывал опыт, случались не реже двух раз в год, и преследовали одну и ту же цель и имели один и тот же успех – вернее, неуспех, редактор испытывал к нему сочувствие, смешанное со смущением, иногда оборачивавшимся сильным неудовольствием. Тем временем наборщик тихо вошел и с подчеркнутой вежливостью совершенно бесшумно закрыл за собой дверь кабинета.
– Садитесь, Иоганнес, – начал главный редактор в ободряющем тоне (почти так же он в былые времена обращался к молодым литераторам, а сегодня – к молодым политикам). – Как поживаете? На что жалуетесь?
Глаза Иоганнеса – глаза ребенка на лице старца – были окружены бесчисленными мелкими морщинками и глядели на редактора испуганно и грустно.
– Все то же самое, – произнес он голосом мягким и скорбным. – И становится все хуже, очень скоро последует полный крах. Мне открылись недавно ужасающие симптомы. То, от чего десять лет назад встали бы дыбом волосы даже у среднего читателя, сегодня им не только преспокойно воспринимается в отделе новостей, информации или спортивного очерка, не говоря уже об анонсах, нет, даже в фельетоне, оно просочилось и в передовые статьи; даже для хороших, уважаемых литераторов эти ошибки, эти ужасные обороты и безграмотные выражения стали чем-то само собой разумеющимся, сделались правилом, нормой. В том числе и у вас, господин главный редактор, извините, у вас тоже! Я не хочу повторяться, говоря, что наш письменный язык становится чем-то вроде бедняцкого жаргона, жалчайшего и обовшивевшего, что исчезли все красивые, богатые, редкие и сложные языковые обороты, что уже несколько лет я не могу обнаружить в передовых статьях точного употребления взаимозаменяемых временных форм, как тем более не встречаю ни прекрасных, полнозвучных, благородно построенных и пружиняще шагающих предложений, ни периодов, отличающихся особой чистотой и выверенной, внутренне обоснованной структурой, когда тональность постепенно повышается, а потом элегантно понижается. Я знаю, все это ушло. Подобно тому как на Борнео и всех прочих островах вы истребили райских птичек и королевских тигров, точно так же вы уничтожили и извели все прелестные обороты, все инверсии, все нежные игры и оттенки нашего дорогого языка. Я понимаю, спасти все это уже невозможно. Но прямые ошибки, очевидные, неисправленные несуразности, полнейшее безразличие к основным правилам и логике грамматики! Ах, господин доктор, случается, что по старой привычке предложение начинают со слов «с одной стороны» или «вопреки тому» и какими-то двумя строчками ниже забывают об отнюдь не сложных обязательствах, взятых на себя таким началом предложения, забывают о придаточном предложении, уходят в другую конструкцию, и только самые лучшие перья пытаются хоть как-то избежать скандала, скрывшись за тире или смягчающими кулисами скромного многоточия. Вы, господин главный редактор, знаете, что это тире есть и среди ваших воинских доспехов. Некогда, много лет назад, я его презирал, считал злым роком, но дело зашло столь далеко, что ныне я растроганно приветствую тире, стоит ему появиться; я глубоко благодарен вам за каждое тире, ведь оно как-никак – остаток былого, оно как бы служит знаком культуры, нечистой совести, пишущие прибегают к нему как к сокращенному, зашифрованному признанию в том, что осознают свои обязанности по отношению к законам языка, что в известной мере испытывают стыд и сожаления, будучи вынуждены достойными сожаления обстоятельствами чрезмерно часто грешить против святого духа языка.
Редактор, в течение всей этой речи продолжавший с полуприкрытыми глазами делать разметку, которую он начал до прихода наборщика, медленно поднял веки, остановил свой ласковый взгляд на Иоганнесе и с благожелательной улыбкой, медленно и умиротворенно проговорил, явно стараясь ради старика подбирать формулировки помягче:
– Знаете, Иоганнес, вы совершенно правы, и я всегда в беседах с вами охотно это признавал. Вы правы: язык былого времени, язык изысканный и превосходно отточенный, который два-три десятилетия назад был еще хотя бы приблизительно известен многим авторам и употреблялся ими, этот язык погиб. Он погиб, как погибли строения египтян и погибли системы гностиков, как вынуждены были погибнуть Афины и Византия. Это грустно, дорогой друг, это трагично, – при этом слове наборщик вздрогнул и открыл было рот, желая что-то воскликнуть, но овладел собой и покорно принял прежнюю позу, – но в этом наше предопределение, и мы, согласитесь, должны принять историческую неизбежность, даже самую горькую. Мне уже приходилось говорить вам ранее: прекрасно хранить некую верность прошлому, а что до вас, то я эту верность не только понимаю, но и восхищаюсь ею. Но цепляться за вещи и понятия, осужденные, если угодно, на гибель, неразумно, всему есть свои границы; сама жизнь проводит эти границы, и, если мы хотим перешагнуть их, если мы слишком крепко привязаны к умершему, мы тем самым вступаем в противоречие с жизнью, которая сильнее нас. Я отлично понимаю вас, поверьте мне. Я знаю, вы превосходно владели тем языком, вы известны как наследник этих прекрасных традиций, вы, бывший писатель, должны, разумеется, больше других страдать от состояния заката, от состояния неуверенности, в котором находится наш язык, вся наша былая культура. А то, что вы, наборщик, ежедневно становитесь свидетелем этого заката и, более того, в некотором смысле своим трудом содействуете ему, для вас, конечно, горестно, ноша эта тягостна, – при этих словах Иоганнес снова вздрогнул, и редактор невольно поторопился подыскать иное выражение, – в этом есть нечто от иронии судьбы. Но ни вы, ни я, никто другой изменить ничего не в силах. Мы вынуждены признать ход вещей и подчиниться ему.