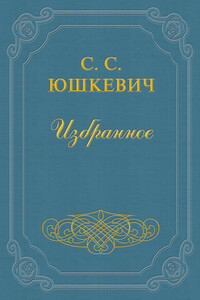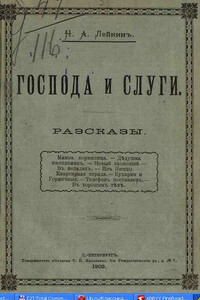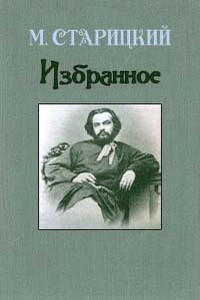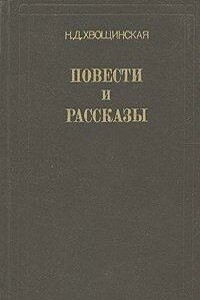§ 1
Елизаветинцами называют обычно писателей, деятельность которых протекала в пятидесятилетие, последовавшее за 1587 годом, т. е. в период от времени разгрома Непобедимой армады до начала Великого восстания>2. Имя это не так условно, как кажется, ибо – хотя в названный юбилей>3 сменилось несколько правителей – люди, его населявшие, или родились в царствование Девственной Королевы>4, или были воспитаны в круге понятий, эпоху этого правления проникавшем. Исследователи установили схематическое деление всего периода на четыре цикла (мы имеем в виду главным образом драму, как наиболее своеобразное проявление гения той эры).
В подготовительном периоде явственно обозначилось два течения: реалистическое, чьих выразителей находим в лице Пиля и Грина, и романтическое, определившееся в творчестве Лилли. История этого цикла характеризуется победой романтического направления, нашедшего воплощение лучших своих надежд в созданиях Христофора Марло, окончательно установившего общие композиционные принципы английской драмы (основания видовых построений выработаны другими – для «кровавой трагедии» Киддом, для комедии – Грином). Смерть Марло лишила романтическое направление величайшего его представителя, и второй цикл елизаветинской драмы, реализовавший возможности созданной Марло композиции, характерен господством реализма, освященного ослепительной гениальностью Шекспира, и титанической механикой Джонсона. В системе талантов, обращающихся вокруг этих центров, романтические наклонности – такое же исключение, как и направление орбиты спутников Урана в нашей. У Гейвуда она пробивается в аспекте сентиментализма, у Мэрстона – в сарказме. Но значащими деятелями третьего цикла, естественно, оказались продолжатели стремлений Марло. Джон Форд в этом окружении занимал позицию, подобную месту А. Бейля>5 среди романтиков или Флобера>6 – у натуралистов. В это время, время разработки проблем, противопоставленных великими предшественниками творчеству богатых наследственным опытом драматистов – общий уровень писанного театра достигает нигде не бывалой и никем не повторенной высоты. Для самого беглого перечисления великолепных представителей этого истинно царственного театра пришлось бы выписать не менее пятнадцати имен; стремительность развития романтической драмы захватывает дух того, кто захотел бы ее исследовать и дойти с ней до неисчерпаемого богатства поэтики памятного нам Флетчера, где драма эта достигает своих предельных, огнедышащих вершин… ледяных.
Драматическая композиция оказалась бессильной удержать стремления мятежного духа своего создателя – романтического коррелата Шекспиру не существует в драме и не будет существовать. Теперь мы это видим, потому что воистину прав де Куинси – нет литературы, не исключая и афинской, где бы найти многообразнее театр, и если той художнической армаде, которая за каких-нибудь двадцать пять лет «перебрала все грани человеческой личности, использовала все возможности родного наречья, приспособила белый стих к передаче мириады образов и положений»>7 перед подвигом которой возможно только молчание, а свершившие его как бы «гигантов род, довременный потопу»>8 – если им не удалось в романтике то, к чему сразу взмыл реализм – значит немыслим и вообще театр романтического пафоса. Героическая романца Флетчера>9 – отпевание Елизаветинского века. Четвертый цикл отмечен блестящей риторичностью, огромным, чисто словесным искусством и сценической находчивостью своих представителей. Но в пьесах Вильсона, Дэвнента, Кроуна>10 – несмотря на вспышки гениальных прозрений (вспомним Вильсонову «Чуму» – по Пушкину): исключительность становится анекдотичностью, сложность – несообразностью, чувство – чувствительностью, а патетика – высокопарностью. Закон, принятый обеими палатами 2 сентября 1642 года>11, запоздал: театр сам прекратился – исчез дух его оживлявший. Но куда ж он ушел? Тщетны были усилия упоительного Отвея>12 – на благороднейших вещах творца «Спасенной Венеции» осел перегар стилизации и бессильны мастерские приемы «людей». Зовись они Поп>13 или даже Драйден – шаг их несоизмерим поступи «гигантов».
Отныне английский театр бездушен: правила классической трагедии спокойно могут приковать его к общей схеме XVIII века; героический стих действительно стал «белым» – он мертв: цезура не шелохнется в сторону от второй стопы. Но романтический дух Марло? Неужели не суждено ему найти форму в пределах словесной стихии народа его породившего? И если белый стих трагедии оказался не вмещающим его, то нет ли места, где бы этот же стих стал органом выражения все той же воли? И тогда мы увидим, что романтический коррелат Шекспира существует и что беспримерная работа «гигантов» завершена, то что не успел выговорить тот юный беспутник, чьи «необыкновенно страшные богохульства и особенно проклятые мнения» записывались добровольным сыщиком за три дня до того, как произносивший их был зарезан по пьяному делу, в соответственном месте>14 – все это воплощено. Оно вылилось в монологи безудержной смелости, где героический метр приобрел полноту и длительность, немыслимые ни в одной правдоподобной трагедии, и никем не превзойденную свободу