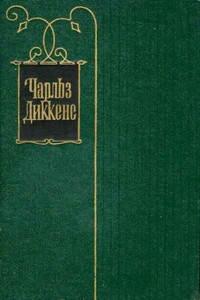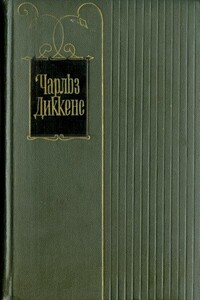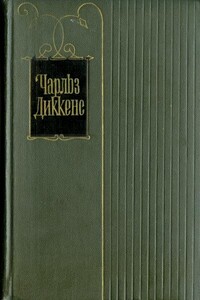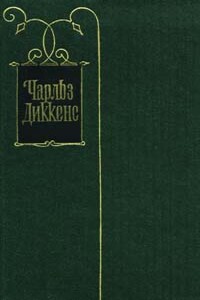Глава XXXI
Сиделка и больная
Я долго была в отъезде, а вернувшись, как-то раз вечером поднялась наверх в свою комнату, чтобы посмотреть, как Чарли упражняется в чистописании, и, наклонившись, заглянула в ее тетрадку. Чистописание трудно давалось Чарли,— она совсем не владела пером; зато каждое перо в ее руке как бы оживало для озорства, портилось, кривилось, останавливалось, брызгало и, словно осел под седлом, шарахалось в углы страницы. Очень смешно было видеть, какие дряхлые буквы выводила детская ручонка Чарли — они были такие сморщенные, сгорбленные, кривые, а ручонка — такая пухленькая и кругленькая. А ведь на всякую другую работу Чарли была на редкость ловкая, и пальчики у нее были такие проворные, каких я в жизни не видела.
— Ну, Чарли,— сказала я, взглянув на страничку, исписанную буквой «О», которая изображалась то в виде квадрата, то в виде треугольника, то в виде груши и наклонялась во все стороны,— я вижу, мы делаем успехи. Только бы нам удалось написать ее круглой, Чарли, и мы дойдем до совершенства.
Я написала букву «О», и Чарли написала эту букву, но перо Чарли не пожелало аккуратно соединить концы и завязало их узлом.
— Ничего, Чарли. Со временем мы научимся.
Кончив заданный урок, Чарли положила на стол перо, разжала и сжала затекшую ручонку, внимательно просмотрела исписанную страницу — не то гордясь своими успехами, не то сомневаясь в них,— встала и сделала мне реверанс.
— Благодарю вас, мисс. Позвольте вам доложить, мисс, вы знаете одну бедную женщину, которую зовут Дженни?
— Жену кирпичника, Чарли? Да, знаю.
— Она давеча пришла сюда, заговорила со мной, когда я вышла из дому, и сказала, что вы ее знаете, мисс. Спросила меня, не я ли прислуживаю молодой леди,— молодая леди это вы, мисс,— и я сказала «да», мисс.
— Я думала, она совсем уехала отсюда, Чарли.
— Она и правда уезжала, мисс, только вернулась на прежнее место… она и Лиз. А вы знаете другую бедную женщину, мисс, которую зовут Лиз?
— Знаю; то есть я ее видела, Чарли, но не знала, что ее зовут Лиз.
— Так она и сказала! — подтвердила Чарли.— Они обе вернулись, мисс, а то все бродяжничали — туда-сюда ходили.
— Бродяжничали, Чарли?
— Да, мисс.— Вот если бы Чарли научилась писать буквы такими же круглыми, какими были ее глаза, когда она смотрела мне в лицо,— чудесные получились бы буквы! — И эта бедная женщина приходила сюда раза три-четыре — все надеялась хоть одним глазком поглядеть на вас, мисс. «Только поглядеть, а больше мне ничего не нужно», говорит; но вы были в отъезде. Вот она и увидела меня. Заметила, как я тут расхаживаю, мисс,— сказала Чарли и вдруг тихонько засмеялась от величайшей радости и гордости,— ну и подумала,— не иначе, как я ваша горничная!
— Неужели она в самом деле это подумала, Чарли?
— Да, мисс,— ответила Чарли,— что правда, то правда.
И Чарли снова рассмеялась в полном восторге, опять сделала круглые глаза и приняла серьезный вид, подобающий моей горничной. Мне никогда не надоедало смотреть на Чарли, на ее детское личико и фигурку, когда она, от всей души наслаждаясь своим высоким постом, стояла передо мной, совсем еще маленькая девочка, но уже такая серьезная, хотя сквозь ее серьезность и прорывалось порой милое ребяческое ликование.
— Где же ты с нею встретилась, Чарли? — спросила я.
Личико моей маленькой горничной потемнело, когда она ответила: «У аптеки, мисс». Ведь Чарли сама еще носила траур.
Я спросила, не больна ли жена кирпичника, но Чарли ответила, что нет. Захворал кто-то другой. Какой-то прохожий, который зашел к ней, а в Сент-Олбенс он приплелся пешком и собирается брести дальше,— сам не знает куда. Чарли сказала, что это какой-то бедный мальчик. И у него нет ни отца, ни матери, никого на свете.
— Вот и у нашего Тома, мисс, никого на свете бы не осталось, умри мы с Эммой после смерти отца,— сказала Чарли, и ее круглые глазенки наполнились слезами.
— Значит, женщина пошла купить ему лекарство, Чарли?
— Она сказала, мисс,— ответила Чарли,— что он как-то раз принес лекарство ей.
Лицо моей маленькой горничной горело от столь сильного нетерпения, а ее всегда спокойные руки так крепко сжимали одна другую, когда она стояла посреди комнаты, пристально глядя на меня, что мне было совсем не трудно угадать ее мысли.
— Ну что ж, Чарли,— сказала я,— давай-ка мы с тобой пойдем к Дженни и разузнаем, как там и что.
Чарли мигом принесла мою шляпку и вуаль, подала мне одеться и — такая смешная — сама по-старушечьи закуталась в теплую шаль и заколола ее булавкой — ни дать ни взять маленькая бабушка; а быстрота, с какой она все это проделала, не оставляла сомнений в ее готовности идти к Дженни. И вот мы с Чарли вышли из дому, не сказав никому ни слова.
Вечер был холодный, непогожий, и деревья раскачивались под напором ветра. Весь этот день, да и много дней подряд, почти беспрерывно шел проливной дождь. Но к вечеру дождь перестал. Небо местами прояснилось, только было затянуто густой дымкой даже в зените, где в просветах меж тучами мерцало несколько звезд. На севере и северо-западе, там, где три часа назад зашло солнце, по небу тянулась полоса бледного, мертвенного света, и прекрасного и какого-то зловещего, а на ней лежали волнистые угрюмые гряды туч, словно бурное море, внезапно оцепеневшее во время шторма. В той стороне, где находился Лондон, грозное зарево висело над темной равниной, и необычайно торжественным казался контраст между его яркостью и гаснущим светом зари, невольно внушая странную мысль, что это алое зарево — отблеск какого-то неземного огня, освещающего невидимые отсюда здания города и лица его бесчисленных обитателей.