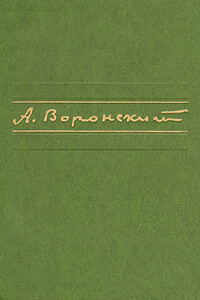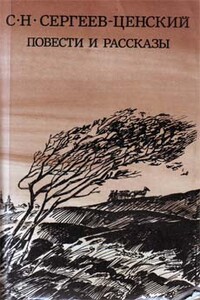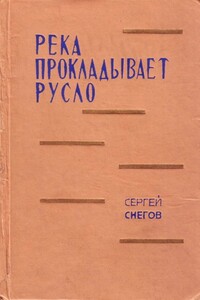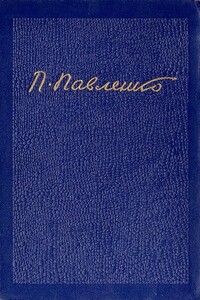Виль Владимирович Липатов
ТОЧКА ОПОРЫ
О нем надо писать не рассказ, не повесть, не роман, а очерк. Именно очерк, чтобы разобраться в том, что сейчас происходит на нашей теплой и круглой земле. Поставить точки над "и", разместить акценты, развеяв дымку предположений, выявить невыявленное и все это сжать тугой пружиной обобщения.
А он сидит передо мной и курит вторую папиросу… Да, вторую папиросу! Видимо, все-таки чуточку волнуется, хотя он слишком крупный и сильный человек для того, чтобы волноваться в обычном смысле этого слова. Не могут же у него – черт возьми! – вздрагивать от волнения руки, прерываться дыхание, краснеть лицо. Это не такие руки, не такие легкие… Вот выкурить подряд две папиросы – это он может!
– Архимед! – улыбается он. – Великий Архимед… Чепуха какая-то получается! Если хочешь знать, гениальный Архимед был несчастным человеком!
– Архимед?!
– Угу, Архимед… – спокойно подтверждает он. – Я могу это доказать его же словами: «Дайте мне точку опоры, и я поверну землю!»
Он поднимается, медленно проходит из угла в угол комнаты, высокий, крутоплечий, с копной белокурых волос на гордо посаженной голове.
– Ты слышишь в словах Архимеда гордую силу человека! – задумчиво продолжает он. – Конечно, но… Ты попытайся услышать в них и другое. – Тут он останавливается, пристально смотрит на меня, но не видит, так как всматривается в другое. – Мальчишкой я жалел Архимеда! – с медленной улыбкой говорит он. – Мне представлялось, как Архимед стоит на возвышенности, как ветер раздувает его тунику, седые всклокоченные волосы. Глаза Архимеда устремлены вдаль, руки подняты к небу. Восклицая: «Дайте мне точку опоры!» – он с тоской глядит на холмистую равнину, печальный, одинокий, такой маленький на большой земле…
– Легенда! – говорю я. – Легенда этот вопрос трактует совсем в ином аспекте. Будет тебе известно, легенда…
– Мне пет дела до легенды! – неожиданно сухо перебивает он. – Мы сами создаем легенды и сами верим им!
– Вот уж… – говорю я, а сам пораженно смотрю на него: он так сказал о легенде, что…
– Ого-го! – говорю я.
– Но – так! – отвечает он.
У него, у Бориса Кочергина, длинный титул: «Бригадир бригады коммунистического труда, инициатор областного движения за пересмотр норм выработки, председатель заводского комитета по рационализации и изобретательству». Он – величество. Только в отличие от русского императора, не «Его императорское величество!», а «Его Величество рабочий класс!».
– Я понимаю тоску Архимеда по точке опоры! – задумчиво продолжает Борис Кочергин. – Чувствовать силы для свершения и не мочь свершить – одна из великих трагедий жизни! Ты перебери всю литературу прошлых столетий и увидишь, что трагедия ее героев в невозможности свершать.
Он опять смотрит на меня и опять не видит.
– Мне думается, – говорит Борис, – что счастье человека заключается в возможности свершать. Потому я и слышу в словах Архимеда не только гордую силу человека, но и тоску по несуществующей точке опоры.
Сказав это, он садится на место, вынимает пачку папирос, чиркает спичкой. Это уж будет третья папироса, которую выкурит он с тех пор, как пришел ко мне. Три папиросы – это много для него, и я настораживаюсь.
– Интересно, интересно, – говорю я. – Дальше?
– Пожалуйста! – улыбается он и пожимает плечами. – Мне хочется узнать, отчего ты думаешь, что я не все сказал.
– Папироса… Третья папироса! Когда человек собирается бросать курить, но выкуривает три папиросы…
– Ясно! – серьезно и тихо говорит он. – Я буду продолжать… Точка опоры, оперевшись на которую можно повернуть землю, есть…
– Так, так! – тороплю я его. – Точка опоры, оперевшись на которую можно повернуть землю, это…
– Советская власть…
…Мы некоторое время молчим. То есть я по-прежнему сижу и смотрю на него, а Борис опять ходит из угла в угол комнаты, заложив за спину руки.
– Вот так! – наконец говорит он. – Тут есть, по-моему, зернышко для раздумий о том, каким должен быть человек коммунистического общества. Тут есть что-то. Определенно есть!.. Ты пощупай-ка эту мысль. Может быть, хватит для затравки… А я, брат…
– А ты?
– А я, брат, пойду на работу… Мне сегодня в третью смену! Будь здоров!
– Будь здоров, Боря!
Он уходит, черт белобрысый, а я остаюсь наедине с теми мыслями, которые он оставил для завтрака и советовал «пощупать». Наговорил кучу отличных мыслей, поймал меня на крючок и пожалуйста: «А я, брат, пойду!.. Мне сегодня в третью смену!» Хорошо, что хоть ни на концерт художественной самодеятельности!
"Свин белобрысый! – ворчу я. – Если бы ты знал, как мне трудно ставить акценты, точки над "и", сжимать тугую пружину обобщения!" Черт возьми, если бы он знал это, он бы не ушел так скоро, не завел бы разговора за полчаса перед своей третьей сменой. Но он не знает, что мне обязательно нужен собеседник для того, чтобы четко и точно мыслить. Один я, честное слово, не способен до конца довести ни одной мало-мальски путной мысли, а уж о пружине обобщения и говорить нечего – ее я могу сжать только на глазах собеседника.
Мне нужен собеседник. И я нахожу его… Это высокий черноволосый человек с немигающими строгими глазами. Зовут его Павел Павлович, работает он редактором одной газеты, ему сорок три года. Я мысленно беру Павла Павловича за руку, привожу его в свою комнату, сажаю на стул и говорю: «Начнем беседовать, Павел Павлович! Войдите в мое положение – я не могу настроить без вас эту самую пружину обобщения!»