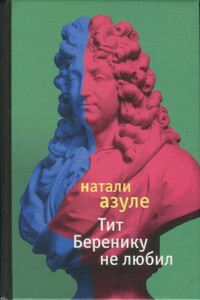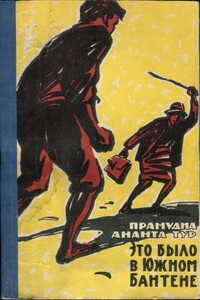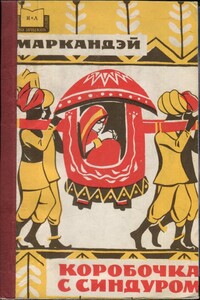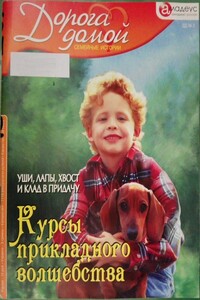Тит жадно ест. Голод его соразмерен энергии, которой требует такая минута. Береника не прикасается к пище. Сидит неподвижно, уставясь в тарелку. Вдруг начинает плакать. Тит ее обнимает. Она хочет уйти — не пускает. «Какой же я мерзавец!» — в последний раз Тит утирает слезы той, которую он так любил, но остается при своем решении. Тит любит Беренику и расстается с ней.
Тит расстается с Береникой, чтобы не расставаться с Империей, своей женой и матерью его детей. Тит уж давно Империю не любит, но она сильна, отважна, неглупа, и он не хочет ничего менять и рушить, а потому приходит к ней и говорит: прими меня обратно, и она принимает — ей нестерпимо, чтобы он покинул замок их многолетнего супружества.
В тот вечер Тит оставил Беренику, и Береника не держалась на ногах. Пришла домой и рухнула. Но ей было плохо и лежа, ее будто качало, будто растягивало в длину. В глазах все закружилось, Беренику затошнило. Но не вырвало. Она снова легла, и тошнота вернулась, тошнота исходит откуда-то из самой глухомани чрева, из таких слоев, которые обычно не слышны и не поднимаются на поверхность. Она еще не знает, что желчь и горечь разнятся только по названию, но начинает понимать, что недра тела и души располагаются в одном и том же месте. Тит ушел — и на коже ее проступило черное пятно. «До грехопадения Адам был алмазом, а после — стал углем», — так сказал Сен-Сиран, соратник Янсения[2].
Говорят, сердечная рана проходит за год. И много говорят других избитых слов, которые в конце концов стирают истину.
Что это нечто физиологическое, настоящая болезнь, от которой организм со временем должен оправиться.
Настанет день, когда ты будешь помнить только счастливые минуты (самое нелепое, что доводилось слышать Беренике).
Зато потом станешь сильнее.
Сейчас ты говоришь, что больше никогда не полюбишь, но вот увидишь.
Жизнь всегда берет свое.
И т. д.
Слова текут, журчат, укрывают, баюкают.
По правде говоря, этот целительный лепет ей и нужен.
Эти речи поднимают шум вокруг нее, колышут кроны сострадания, обобщения, практичности, служат лиственным ложем для бедного тела. И все же иногда ей хочется полнейшей тишины, хочется прийти к близким людям, сесть в самом центре тесного кружка, и чтобы все смотрели на нее и молча слушали.
И вот однажды, не то в чужой исповеди, не то в ответ на ее собственную, она услышала: «Как мне постыл Восток и как я тосковал!»[3]
Звучный голос, блуждающий взгляд, трепещущая грудь. Волнующе и патетично. Голос был одинокий, но в нем слышался хор. Этот голос взывает к другому, тот — к третьему: бесконечная цепь. Она улыбнулась.
Дома, вечером, она достала с книжных полок всего, какой у нее был, Расина: «Андромаха», «Федра», «Береника». А что еще он написал? Надо бы докупить остальное.
Она вошла во вкус декламации в затверженном ритме, с эффектными жестами. Нальет себе чашку чая — и часами читает вслух александрийские стихи. Довольно неумело, но старательно. Глотая слоги, путаясь в цезурах. И постепенно делает успехи, и ей все больше нравится, стоя на месте, качаться на мерных волнах, вздымающихся в ней самой и в стенах комнаты. Устанет голос — она нальет еще чашку горячего чая и выпьет мелкими глотками. И снова бормочет стихи — ей надо, чтобы губы непрерывно шевелились, соприкасались, чтобы меж ними струился воздух. Читать глазами мало — стих надо перекатывать во рту.
Целительный лепет теперь изменился. Все чаще вместо афоризмов в него вплетаются двенадцатисложные строчки — те, что учили в школе, или стихи со сцены Комеди Франсез — допотопные, громоздкие, странные, — настолько странные, что хочется не то отправиться в края, где люди говорят вот так, не то насмешливо кривляться: читать, и хохотать, и издеваться над высоким слогом, ломать знакомые созвучия и выворачивать классический язык, так сказать, наизнанку.
Читает она каждый день разное: «В плену, в отчаянье, сама себе постыла…»[4], «Ваш гнев неукротим, и карам нет конца…»[5] или: «Все ранит, все томит, во всем одно терзанье…»[6]. Или еще: «Подолгу я блуждал по милой Цезарее…»[7] Подбирает стих в зависимости от настроения: созвучный своей ярости, оцепенению, тоскливому одиночеству. Расин — супермаркет любовных терзаний, сказала она как-то раз, чтобы сбить слишком серьезный тон, который привносили в разговор эти ее внезапные цитаты.
Расин сочинил всего двенадцать пьес. Корнель, для сравнения, написал тридцать три, да и Мольер — три десятка. В то время плодовиты были все, даже авторы средней руки. А Расин две последние трагедии написал потому, что его попросили. Иначе их было бы десять. Возникают вопросы. Почему он написал так мало? Что делал в остальное время? Рембо назвал его великим, мощным, безупречным.
Благодаря Расину она обходится без того, чтобы изливать душу избранным в наперсники лицам. Да и где их найти — кому это нужно: каждый день подставляться под стылую капе́ль уныния. Ее близкие сыты по горло. Она и сама, когда, бывало, приходилось выслушивать чьи-то горестные излияния, невольно думала, что это так же тоскливо, как выслушивать чужие сны, — ни то ни другое никак нас не касается. Но все же ей тесновато в формате трагедии: двадцать четыре часа — слишком короткий срок, чтобы ввергнуть героев в раскаленное жерло неутоленной страсти. Исключение — «Андромаха». «Расин располагает исходную и конечную точки так близко, что все действие укладывается в очень тесный круг», — писал Лансон