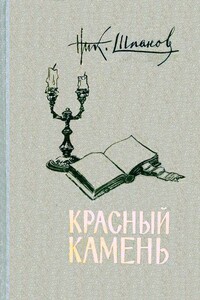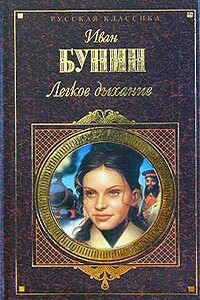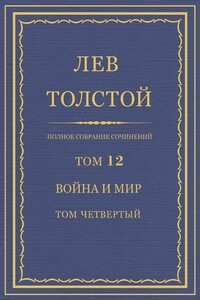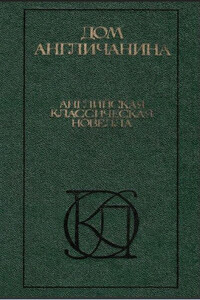День выдался жаркий, хоть и апрельский, и в тёплом пальто было тяжело бродить по откосам и крутизнам Царского сада, в надежде встретить живописное местечко и зачертить в альбом. Живописных местечек тут, разумеется, множество, и оттого для нашего брата, художника, так затруднителен выбор: и направо дерево дуплистое, корявое, раскидистое, старое, такое, что, глядя на него, душа радуется; и налево, чудного весеннего тона, и прямо, и куда ни кинешь глазом.
Полчаса проискал я чего-нибудь ещё поживописнее и, наконец, спустился под гору. Огромная липа привлекла моё внимание. Эта липа, толщиною в два обхвата по крайней мере, роскошно разрослась и слегка наклонилась к горе, точно поддерживала её тяжесть, упираясь в землю огромными полуобнажёнными корнями, расходившимися наподобие двух могучих ног. По глинистому руслу змеился ручеёк, и было бы преступлением, если б я не остановился на этой красавице липе. Благо, недалеко лежал большой камень. Я сел на него, раскрыл альбом и стал работать.
Корни липы, расходясь, образовывали нечто вроде пещеры, но только неглубокой. Когда карандаш мой дошёл до неё, я заметил, что тень в ней чересчур пестра. Я встал и, к удивлению своему, увидел, что там была скамейка, на которой мог бы лечь человек, подобрав под себя ноги. Возле скамейки стоял глиняный красный кувшин с отбитой ручкой, и валялся букет пролесок.
Пещера была обитаема!
Я знал, впрочем, что Царский сад населён разной бездомной голытьбой; но я не думал, что населён он в прямом смысле слова. И моё недоумение и удивление было скорее археологического характера: так удивился бы археолог, который, зная о доисторических людях только из книг и по музеям, вдруг очутился бы перед жилищем пещерного человека.
Позади меня раздался треск сухого сучка. Я обернулся: шла нищая, ужасная на вид, в ваточной кацавейке, в грязном тёплом платке, в отрёпанной, светящейся от дыр, ситцевой юбке и резинных стоптанных калошах. Из глубины этого клубка тряпок светилась пара узеньких человечьих глаз, и краснел острый нюхающий нос.
– Здравствуйте, – произнесла она, приближаясь.
– Здравствуйте, – ответил я.
Она хрипло засмеялась.
– Вы что здесь делаете, барин?
– Видите – рисую.
Новый взрыв хриплого смеха.
– Для чего рисуете?
– Так надо.
– Так надо, – повторила она и заглянула в альбом.
– Сымите меня, барин, – сказала она помолчав.
Нищая была очень типична, я приготовил новый листок альбома.
– Хорошо, садитесь, я нарисую вас.
– Где садиться?
– Садитесь на эту скамеечку.
– Хи-хи-хи!
– Что вам смешно? Сидите смирно. Я заплачу вам.
Она уселась. Но не успел я обвести контур её фигуры, как она опять заволновалась.
– Мне, барин, выпить хочется за ваше здоровье… Барин, а барин, когда я была молоденькая, то один прапорщик мне пять рублей дал за то, что я снялась… в полном своём виде. И тую карточку он при сердце своём по гроб жизни обещал носить… Мне ежели, барин, дадите двугривенный, то я выпью… Ах, как выпью!
– Тише, пожалуйста. Вот ответьте мне лучше, здесь ночуют, в этом дупле?
– Хи-хи-хи!
– Вам трудно сказать, что ли?
– Ночуют! Все ночуют! Кто первый пришёл, тот и ночует. Здесь свадьбы справляют! Хи-хи!
– И вы?
– А как же!
– Вам лет сорок?
– Я не считала. Может, я ещё и молода. Меня унтер-офицеры очень обожают. Я ведь не какая-нибудь. Я – дворянская дочь, – продолжала нищая. – Они меня за благородство избирают. Тут молоденьких много шляется. Да кровь не та. Нет!
– Если вы дворянка, зачем вы называете меня барином?
– Как же вас назвать? Ну, хорошо, буду говорить вам: господин фотограф.
Она засмеялась.
– Отпустите, ой отпустите душу на покаяние! Пить хочется, смерть моя!
– Подождите немножко. Не вертитесь.
– И зачем вам мой патрет – право, и не знаю, – с кокетливой ужимкой начала она.
– Сами просили!
Она закрыла лицо рукой и сквозь пальцы жеманно смотрела на меня.
– Примите руку.
В ответ она стала смеяться, тереть ладонью по носу и, наконец, легла.
– Ой, – смерть моя!
– Ни копейки не получите! – сказал я и захлопнул было альбом.
Она мгновенно выпрямилась, скромно села и не шевелилась.
– Сымайте уже, сымайте скорей! Это я так.
Я начал рисовать.
– Глаза рисуете?
– Да.
Она широко раскрыла глаза.
– Что вы делаете?
– Чтоб лучше вышло. Когда глаза большие, то красивее.
Она кокетничала!
– Скажите, вы постоянно в саду? Круглое лето?
– А то ж! Да и зимою случается, когда к Терещенко, в ночлежный дом, не попадёшь.
– Зимою в саду?
– Новости какие! До кучи сберёмся, мужчины и бабы, и греемся. В прошедшем году одна девушка Богу душу отдала. Или мы приспали её, или уж худо одета она была, а только так случилось. Проснулась я… Братцы мои! Что это, лёд такой у меня под боком! Цап – аж то Машка закоченела…
Она пожевала мягкими, как у лошади подвижными губами.
– Красивая эта девушка была, – начала она вдумчиво. – Тело белое, а ни пятнышка. На меня была похожа.
– Вы никогда не пробовали служить?
– На что мне служить? Хи-хи-хи! Невидаль! Да и где место найдёшь? И кто меня возьмёт… такую…
– Какую?
– Дворянскую дочь, – пояснила она. – Непривычное дело моё!
– Но когда-нибудь и что-нибудь вы работали?
Она долго думала, как бы вспоминала. И, наконец, решительно сказала: