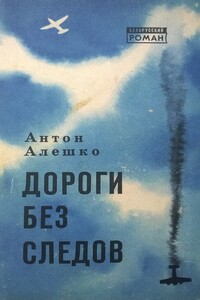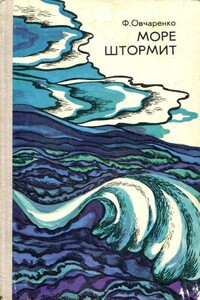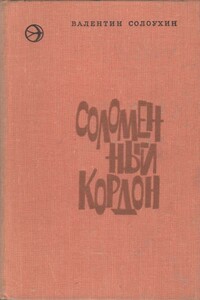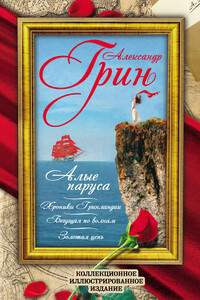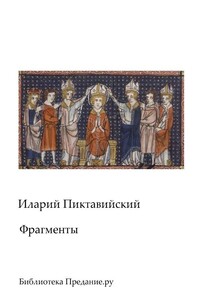Николай Михайлович ПОЧИВАЛИН
ТЕМНЫЕ АВГУСТОВСКИЕ НОЧИ
Два синих ларька, длинный вкопанный в землю горбатый стол летнего базарчика да тесовый магазинчик с пудовым замком на двери - торговый ряд, который из ночи в ночь, с весны до осени сторожит Дарья Яковлевна. Летом тут народ с утра до темного гомонит: днем - больше бабы, за молоком, за ягодой, либо ребятишки за розовыми пищекомбинатовскими пряниками, вечером, считай, одни мужики - за поллитрами. А с осени, когда закосят дожди и: ларьки заколотят крест-накрест досками, Садовая опять станет тихой боковой улочкой с рябыми стылыми лужами в выбоинах. Тогда Дарья Яковлевна перейдет сторожить склады, где есть будашка, а в будашке - железная печка. Третий год стоит она в сторожах и еще пять лет стоять - до пенсии. Раньше на кирпичном заводе работала, лучшей обжигальщицей была. Как, бывало, праздник, так и премия. А потом, как сердце прихватило - раз, да другой, да третий, как врачи ограничение дали, так уж ее сюда и поставили. Ничего - все при деле. Иной раз подумаешь, так лучше бы эти пять лет шли, шли да и не кончались: неохота на пенсию.
Чурбашок, на котором Дарья Яковлевна коротает скорые весенние, а теперь подлинневшие августовские ночи, на месте; замок на магазине цел, - вон какой дурило, вроде доброй тыквы. Заступая на дежурство, Дарья Яковлевна, привычно вглядываясь, неторопливо идет вдоль торгового ряда - высокая, в черном незастегнутом ватнике, в наброшенном на голову и пока не повязанном темном платке. Под утро и ватник и платок в самый раз будут.
Крайний, на самом углу, дежурный ларек все еще открыт; в освещенном квадрате, подавая поллитровки, крутится в белом халате дородная Степановна.
- Припозднилась ты что-то, - строговато говорит Дарья Яковлевна.
- С ними припозднишься! - немедленно визгливым голосом откликается Степановна. - Не закрой, так всю ночь не уйдешь. Вроде мне самой и жизни уж нет! Всё!..
Притворно ругаясь - сейчас самая выручка, - продавщица сует в протянутые руки бутылку, вторую, с треском в сердцах закрывает окно и уже без халата вываливается наконец из ларька. Вываливается, каждый раз поражая усмехающуюся Дарью Яковлевну: как такая гора мяса в эдакой клетушке умещается?
Свет в ларьке гаснет, враз загустевшая темнота бьет по глазам и тут же вроде редеет. На западе еще доигрывают голубые струи позднего заката, по небу разгораются, ясно мерцая, звезды. Все окружающее приобретает мягкие, чуть расплывчатые очертания, и только громкие голоса подвыпивших мужиков нарушают ночную тишину и покой.
Размахивая малиновыми огоньками папирос, мужики, заняв за длинным горбатым столом место торговок, заканчивают свое стограммовое пиршество. В душе Дарья Яковлевна немного и сочувствует им, но больше - осуждает. Конечно, после работы, с устатку, понемножку и выпить не грех. Не все же работа, работа. Им ведь, мужикам, тоже когда собраться хочется да свои мужские разговоры поговорить. Это ведь так только считается, что одни бабы до разговоров охотницы. Приглядеться, так мужики не меньше языками почесать любят. И толку от их разговоров, как и от бабьих, - одинаково: никакого. Только гонору побольше. Так что - пускай бы и выпили, лишь бы место и время знали. А то ведь прохлаждаются, а жены с ребятишками ужинать ждут. И пьют многие нехорошо: под "утирку", под тот же черствый пряник, а если кто огурец прихватить догадался, так под него уж и бутылки на двоих мало! Нет, что там ни толкуй - прежде аккуратнее пили. Иван, бывало, вернется в субботу из бани - сама чекушку на стол выставляла. Капусты там соленой, еще чего, что от обеда осталось, самовар шумит - как заведено. Когда, случалось, и Дарья Яковлевна рюмочку пригубит, а после ужина-то, глядишь, в четвертинке еще и останется. Неужто, доживи он, тоже бы так наловчился?..
Дарья Яковлевна проходит вдоль стола, зорко вглядываясь и все примечая: похоже, заканчивают. Знакомых не видать, а незнакомому не укажешь. Это раньше, когда тут глухомань была, каждого в лицо знала, каждый тебя знал. А после войны, как прошла автотрасса, народу в городе прибавилось.
В окнах напротив - у врачихи со "Скорой помощи" и у кузнеца Потемкина гаснет дрожащий серебристый свет телевизоров, - должно быть, одиннадцать уже. По дощатому тротуару стучит каблучками учителева дочка, - скорей всего, с последнего сеанса, из кино... Меняется жизнь, и зря старики, а когда под настроение и она, Дарья Яковлевна, бурчат, что, дескать, прежде все лучше было. Вранье!.. На каждом углу колонок понаставили, воды теперь - хоть залейся. Забыли уже, как прежде руки рвали, пока из колодца ведро выкачаешь. Тут вот, на Садовой, деревянный, из досок, тротуарчик уложили, а по центральным улицам бетонные плиты. Идешь вечером - навстречу тебе краля на шпилечках, юбка колоколом, ну скажи - с картинки прямо! И кто думаешь? Девчонка с того же кирпичного. Вот тебе и прежде! Прежде, бывало, справят что, так уж до износу, в гроб в том же положат. По совести-то, прежде одно только лучше и было: своя молодость. Так никто в этом не виноват, что из любого молодого со временем старая песочница образуется. Эх-хе-хе!..