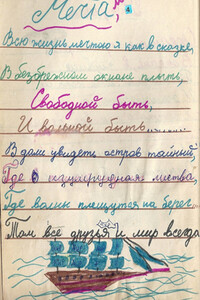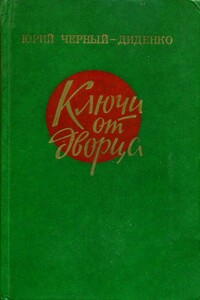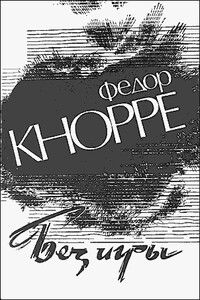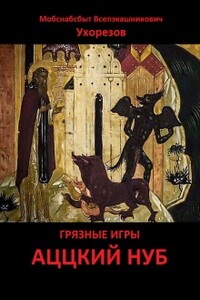Река была вечна и неизменна. Она текла так же, как и сто или двести лет тому назад: гневно бурлила между столбов, оставшихся от маленькой пристани, тихо журчала на широких перекатах с золотистым песчаным дном. Как и много лет назад, в ее волнах купались зеленые ветви верб и ольхи. Как и много лет назад, по вечерам гнали на водопой скотину.
Когда зимой лед сковывал ее воды, жителям деревни чего-то не хватало, — пожалуй, ее ленивого шума.
Но сейчас жители деревни, родившиеся и выросшие на высоких берегах Вепша, избегали реки, которая еще недавно была для них чем-то не менее близким, чем родные отец или мать.
На берегу не слышно было теперь извечного стука бельевых вальков. Не скрывались в густых прибрежных зарослях влюбленные пары. Дети, пасущие коров на прибрежных лугах, поспешно отгоняли своих Красуль и Буренок, когда те привычно направлялись к реке.
Это была не прежняя, давно знакомая им река. Теперь ее течение все чаще несло человеческие трупы.
В первое время, отдавая дань памяти погибших, их тела вылавливали и хоронили на кладбище, а старый ксендз Голашевский служил молебен за упокой христианских душ.
Потом стали только быстро и боязливо креститься. «Дай, господи, им вечный покой…» — шептали над ними, испуганно поглядывая на реку.
В такие дни не гоняли скот на водопой. Надрываясь под тяжестью ведер, носили воду из колодцев и поили скотину в хлевах.
Деревенские парни перестали купаться в реке с того дня, когда Шафран Зыгмусь, нырнув с высокого берега, ткнулся головой прямо во вздувшийся живот утопленника.
Те, что посмелее, по утрам обходили берег в окрестностях деревни и длинными шестами сталкивали в реку застрявшие в прибрежных зарослях трупы.
А тела все плыли… Были дни, когда их насчитывали до десятка и даже больше.
По ночам со страхом, твердя молитву, смотрели в сторону верховьев реки. На горизонте полыхало зарево горевших деревень.
«Господи, упаси от мора, голода, пожара и войны», — шептали люди.
Случаев мора жители деревни не помнили, хотя на повороте дороги, бегущей вдоль обрывистого берега реки, и стоял крест в память о холере, которая обрушилась на деревню девяносто лет назад.
Голода деревня не знала никогда — разве только какой-нибудь батрак… Даже в годы первой мировой войны голод обошел ее, в отличие от деревень, расположенных на противоположном берегу Вепша. Не земли там были, а сплошной песок. Их же деревня всегда была сыта.
Война уже шла, но до сих пор она не слишком давала о себе знать. Несколько жителей деревни находились в лагерях для военнопленных, несколько человек вернулись с войны израненными, однако никто не погиб. Деревня была большая, тесно застроенная: нередко конек кровли одной хаты соприкасался с коньком другой.
Пожаров же боялись, как ничего другого. Всем был памятен пожар, случившийся за несколько лет до войны. Прежде чем люди успели прийти в себя после сна, красный петух уничтожил тридцать шесть домов.
Смотрели теперь в сторону верховьев реки, на зарево, освещавшее небо, крестились дрожащими руками и шептали: «Господи, упаси от мора, голода, пожара и войны», — а думали только о пожаре.
Река текла, безразличная к тому, что несли ее ленивые воды.
Текла она так же, как в те времена, когда над ней неслись крики сплавлявших лес плотогонов, когда стучали на ее берегах вальки в руках стиравших женщин, когда в знойные дни весело смеялись купавшиеся деревенские ребята или когда пискливо визжали девчата, которых по народному обычаю обливали водой на второй день пасхи.
Однако Вепш больше не был прежней рекой, с детства родной и близкой всем жителям деревни, добром служившей людям и несшей им радость.
Это была темная река!
Люди сторонились ее и со страхом смотрели в ее сторону.
Лишь Зенек не сторонился реки ни раньше, ни теперь, не крестился боязливо, не шептал молитвы, приближаясь к ней. Она по-прежнему оставалась его рекой — другом и товарищем, которому можно доверить самое сокровенное.
Его звали Хромым. Это прозвище пристало к нему, и многие уже забыли его настоящее имя. Люди произносили это слово без какой-либо злобы или насмешки, совершенно равнодушно. Ведь он действительно был хромым, а значит, дармоедом: ни с косой, ни с плугом управляться не мог. Он сторонился людей, замкнулся в себе и почти ни с кем не разговаривал. Люди говорили, что от боли у него в голове что-то сместилось. А боли Зенек перетерпел немало.
Людская молва утверждала, что он сам во всем виноват. Шустрый был парень, даже слишком шустрый. До всего было ему дело. Интересовался каждой новостью, каждой новой машиной — ну и доигрался.
В тот день у старого Матчака косили новой жаткой. Зенек тогда еще не был хромым и нанялся к нему на работу. Нужды в этом ему не было: старый Станкевич был одним из самых зажиточных людей в деревне. Но Зенек, как и всякий парень, хотел иметь грош-другой на карманные расходы. Матчак всегда нанимал работников — он был самым богатым хозяином в деревне и жил в усадьбе, купленной у разорившегося помещика.
Именно жатку и согласился обслуживать Зенек, хотя до того дня подобной машины и в глаза не видел.
Ну и доигрался.