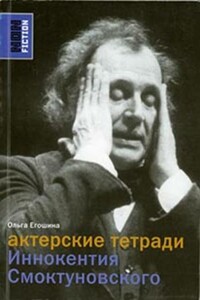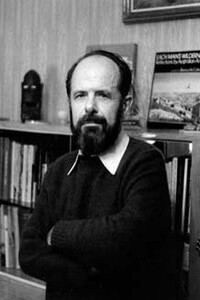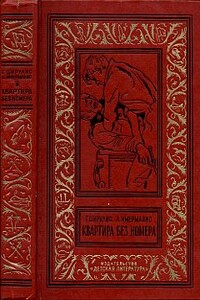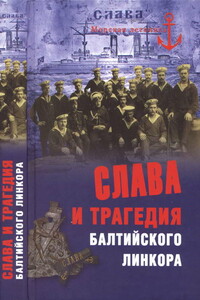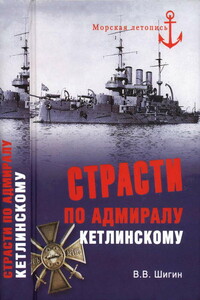Ежи ГРОТОВСКИ
Театр и ритуал
Тема нашей беседы — "Театр и ритуал" или, если хотите, "В поисках обряда в театре" — может показаться слишком научной. На самом деле то, чем я хотел бы поделиться, скорее история мечтаний, иллюзий, ошибок и искушений, встретившихся нам на пути к одной цели в поисках мифа в театре, в поисках ритуала. Думаю, что история эта — очень личная, но думаю также, что из нее можно сделать и некоторые выводы объективного характера.
На заре артистической деятельности, когда я еще молодым режиссером работал в Кракове, у меня уже сложилось некоторое представление о возможностях театра, некий образ этих возможностей; он сформировался в определенной степени наперекор существующему театру, тому очень культурному в расхожем смысле этого слова театру, который является продуктом встречи просвещенных людей: одних, занимающихся сложением слов, компоновкой жестов, проектированием декораций, использованием софитов, и других, тоже просвещенных, знающих, что в театр полагается ходить, что посещение театра — своего рода моральная или культурная обязанность современного человека. В результате и те и другие выходят из этих встреч еще более просвещенными — однако ничего существенного между ними не происходит и произойти не может. Каждый остается пленником определенного типа театральной условности, определенного типа мышления или идеи. В театр полагается ходить, потому что это принято, там «бывают», там делаются спектакли, играются роли, готовятся декорации, но, в конечном итоге, это просто еще один вид механизма, функционирующего автономно, вроде «механизма» чтения докладов. Поэтому я считал, что путем, ведущим к живому театру, может стать изначальная театральная спонтанность. Мне кажется, что это — искушение, влекущее уже давно и многих деятелей театра. Но одного искушения недостаточно.
И я решил, что коль скоро именно первобытные обряды вызвали театр к жизни, то, значит, через возвращение к ритуалу, в котором участвуют как бы две стороны: актеры, или корифеи, и зрители, или собственно участники, и можно воссоздать такой церемониал непосредственного, живого участия, своеобразный род взаимности (явление достаточно редкое в наше время), реакцию открытую, свободную, естественную.
Конечно, у меня были некоторые исходные замыслы: например, я считал, что нужно актеров и зрителей как бы сталкивать в пространстве лицом к лицу, вызывая обмен взаимной реакцией (в самом ли языке-речи или в языке театра), то есть, предлагая зрителям своеобразную со-игру. Но с точки зрения пространственных композиций здесь многое еще было нечетко и неточно, и только в 1950 году, уже после нескольких постановок, когда я встретил архитектора Ежи Гуравского, человека огромного воображения, стремившегося к тому же, что и я, мы вместе двинулись на бескомпромиссное завоевание пространства.
В чем же заключалась наша ведущая идея — довольно абстрактная в начале, но с течением времени обраставшая плотью? В том, чтобы для каждого спектакля пространство организовывать по-разному, ликвидировав сцену и зрительный зал, существующие отдельно друг от друга. В том, чтобы игру актера обратить в стимул, втягивающий зрителя в действие. К примеру, такой эпизод: монах в трапезной. Он обращается к зрителям: "Позвольте исповедаться перед вами", и с этой минуты зрителям навязана определенная ситуация; монах начинает свою исповедь, а зритель — хочет он того или нет — становится исповедником; так было в поставленном нами «Фаусте» Марло.
Иную ситуацию, также возникающую из подобным же образом трактованного пространства, мы выстроили в «Кордиане» Словацкого. Весь театральный зал был превращен в палату психиатрической больницы, отношение к зрителям было подобно отношению к пациентам, каждый зритель расценивался как больной. Более того, даже врачи, то есть актеры, считались больными — все и вся оказалось охвачено великой хворью определенной эпохи, определенной цивилизации, или, точнее сказать, одержимо преданиями и традициями. Но главное: самый больной герой спектакля, Кордиан, был и в самом деле болен, болен благородством. Тот же, кто руководил всем лечением, — полный здравого смысла Доктор — был, конечно, здоров, но здоров самым ничтожным и низким образом. Может быть, это и парадокс, и противоречие, но нам приходится с ним часто сталкиваться в жизни: когда мы стремимся непосредственно воплощать великие ценности, мы вступаем на грань помешательства, мы безумеем, хотя, быть может, и сохраняем здоровье; если же мы хотим быть слишком разумны, мы оказываемся не в состоянии эти ценности воплощать и тогда со всем нашим здравым рассудком, следуя, казалось бы верным путем, никоим образом не сходя с ума, — здоровы ли мы тогда? Возможно, здоровы… но ведь и корова — здорова. Итак, мне казалось, что если актер, совершая определенные действия по отношению к зрителю, стимулирует его, вовлекая в совместную игру, провоцируя на определенного рода поступки — движение и жест, напев или словесную реплику, то это должно сделать возможным восстановление, реконструкцию первобытной общности обряда.