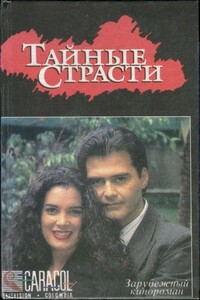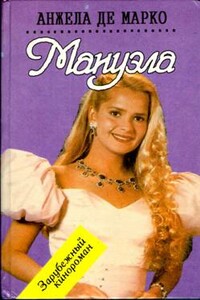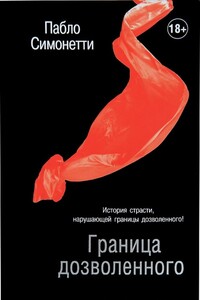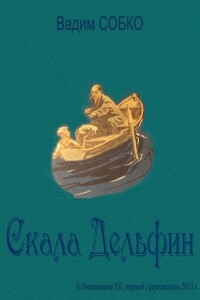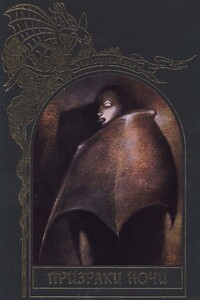Все началось, как обычно, с пустяка. При входе в тюремную столовую одна заключенная толкнула другую… Надзирательницы и глазом моргнуть не успели, как вспыхнула драка. Кровавая и бессмысленная, через мгновение она захватила всех, кто был в столовой. Женщины, ослепленные яростью, уродовали друг друга, давая выход давно накопившемуся раздражению.
Надзирательницы блокировали двери, держа наготове дубинки, но не решаясь лезть в гущу дерущихся. Раненых, которым удавалось добраться до выхода, выпускали во двор, однако тех, у кого не было признаков повреждений, безжалостно вталкивали обратно в толпу. Главное было «локализовать» беспорядки, не дать им выхлестнуться за пределы столовой — а здесь пусть хоть до смерти замордуют друг друга.
Мария Алехандра стояла у стены, пытаясь прикрыть голову от сыпавшихся с разных сторон ударов. Когда началась драка, она оказалась в дальнем углу столовой, и о том, чтобы пробраться к выходу, нечего было и думать. Она не отвечала на удары, только сильнее втягивала голову в плечи и закрывала глаза. В конце концов ее перестали трогать. Эпицентр побоища сдвинулся ближе к двери, да и накал его стал понемногу стихать. Стоны избитых и раненых слышались теперь чаще, чем воинственные крики дерущихся.
Надзирательницы, решив, что пришло время вмешаться, бросились в толпу, яростно обрабатывая дубинками и без того изломанные, налитые болью тела. Внезапно толпа расступилась и в центре образовавшегося круга оказалась высокая, мужеподобная заключенная с обезумевшим от гнева лицом. В руке у нее был длинный самодельный нож, неизвестно каким путем пронесенный в столовую. На мгновение все замерли. Казалось, даже раненые перестали стонать.
Мария Алехандра открыла глаза и огляделась. Увидев неподвижные спины столпившихся у двери женщин, она стала медленно пробираться вдоль стены к выходу. Надзирательницы тем временем пришли в себя и начали окружать заключенную, державшую нож. Отпрянув, та пробила спиной живое кольцо и закружилась на месте, как затравленный зверь, в поисках выхода. Взгляд ее остановился на испуганном лице Марии Алехандры. Ничего не успев сообразить, Мария Алехандра почувствовала, как сильная рука схватила ее за горло, а к щеке прижалось холодное лезвие ножа.
— Только троньте меня, и я исполосую девчонке ее красивое личико!
Хриплый голос нападавшей заставил надзирательниц остановиться. Ее негодующий, мутный взгляд не оставлял ни малейшего сомнения в том, что она поступит именно так, как говорит. Мария Алехандра старалась не шевелиться, ощущая, как при каждом движении железные пальцы все глубже впиваются ей в горло и как подрагивает прижатое к щеке лезвие. Словно чужими, посторонними глазами смотрела она на топтавшихся в нерешительности надзирательниц, на застывших, как статуи, женщин-заключенных. Она видела ужас в их глазах, и понимала, что ужас этот вызван ее собственным жалким видом и трагедией, которая вот-вот могла разыграться. Тем не менее она не чувствовала ни жалости к себе, ни даже гнева по отношению к той, что готова была изувечить и убить ее. Она знала, до чего может довести человека отчаяние, и всей своей тонкой натурой ощущала, что чувство это выше любого другого, выше гнева, жалости, страха, желания выжить и всего того, к чему можно было подходить с обычными человеческими мерками. Отчаявшаяся душа преступает грань земного и, обращаясь непосредственно к Богу или дьяволу, отдает себя на их суд, разочаровавшись в суде земном. Мария Алехандра знала, что это такое. Беспросветное, невыносимое отчаяние не раз овладевало ею. Нет человека, который, оказавшись в тюрьме и проведя в ней долгие годы, ни разу не думал бы о самоубийстве. Мария Алехандра не была исключением, и первой мыслью, что мелькнула сейчас у нее в голове, была мысль об избавлении. Быть может, сам Господь сжалился над ней, ниспослав ей смерть более достойную, чем грех самоубийства?
Словно рябь пробежала по толпе, нарушив всеобщее оцепенение.
— Не подходите! Я ей башку отрежу!
Хриплый вопль, вновь раздавшийся над ухом Марии Алехандры, выдавал одновременно животный страх и абсолютную решимость идти до конца. Толпа тем не менее продолжала волноваться, и в конце концов ее ближние ряды раздвинулись, пропуская вперед коренастую, далеко не благостного вида монахиню, решительно работавшую локтями. Ее черные, сросшиеся на переносице брови и тяжелый, выдвинутый вперед подбородок могли напугать кого угодно, а свирепое выражение лица, с которым она направилась к державшей Марию Алехандру заключенной, придавало ей сходство с армейским капралом, идущим наказывать новобранца.
— Не подходите, сестра Эулалия! Клянусь Богом, я убью ее!
Лезвие ножа сверкнуло перед глазами Марии Алехандры, и острие его больно уперлось ей в горло.
Монахиня остановилась.
— Не богохульствуй, Лорена, — процедила она сквозь зубы. Клянись дьяволом, раз уж решила продать ему душу. Он похлопочет о том, чтобы в аду тебе досталась жаровня поудобней. Но это потом. А пока давай решим дела земные…
Не спуская глаз с Лорены, монахиня стала засучивать рукава своего длинного одеяния. Когда она вновь заговорила, голос ее звучал особенно громко и четко, словно она хотела, чтобы ни одно произнесенное ею слово не пропало даром.