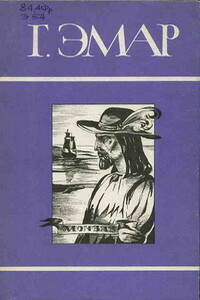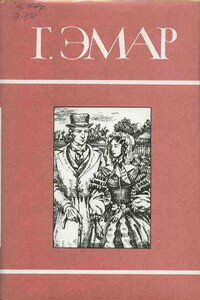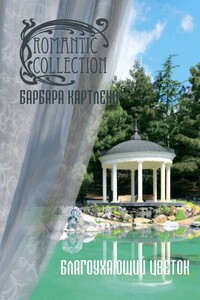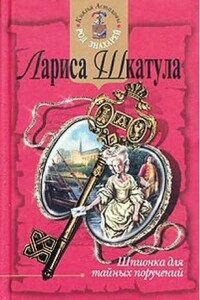Утреннее солнце уже высоко поднялось на небе, пробиваясь своими яркими лучами сквозь густые деревья девственных лесов Индии.
В одной из самых глухих местностей этих необитаемых лесов пробирался человек, судя по костюму — охотник, отставший, по всей вероятности, от своих товарищей.
Он шел в глубокой задумчивости, но вдруг испустил радостный крик, увидя перед собой расположенный лагерь, из которого навстречу к нему вышел вооруженный человек — по-видимому капитан этого отряда; он проворно подошел к охотнику и протянул ему руку.
— Это вы, — сказал он, — будьте добрым вестником и гостем.
— Благодарю, — ответил Рамирес, закуривая сигаретку и делая вид, что не замечает протянутой ему капитаном руки, — когда мы трогаемся в путь?
— Тотчас, тотчас, — вскричал дрожащим голосом Кильд.
Сигнал к отъезду взволновал весь лагерь, который сразу оживился; всякий считал себя счастливым, что оставлял эти пустынные местности.
Через два часа после этого весь караван был уже в дороге. Бенито Рамирес ехал впереди; донна Розарио сидела в паланкине, несомом двумя мулами, а остальные женщины и дети помещались в громадном крытом вагоне.
Мужчины шли за капитаном по обоим сторонам каравана, держа ружья наготове, прислушиваясь к каждому шороху и вглядываясь в каждый предмет. Караван шел с семи часов утра до полудня, и в это время с ним не случилось ничего особенно замечательного.
Вагоны подвигались очень медленно; дороги были ужасны, или, вернее сказать, их совсем не было, а путешественники прокладывали себе проход с помощью топоров и кирок.
В полдень все остановились, чтобы накормить животных и позавтракать.
Во время пяти часов сегодняшнего утреннего пути они с трудом успели сделать около трех миль.
Местность, выбранная ими для остановки, заключалась в довольно обширной луговине, расположенной среди леса, по которой протекал ручей.
На одном из холмов была тотчас же разбита палатка для донны Розарио.
Все женщины, или скорее молодые девушки, находившиеся в шайке капитана, из которых ни одна не путешествовала по своей охоте, хотя по виду и пользовались свободой, но на самом деле строго и зорко охранялись, так что им с трудом было разрешено говорить между собою и настрого было запрещено мешаться с мужчинами и вообще иметь какое — нибудь отношение с ними.
Эта строгость простиралась настолько, что они не смели даже спрашивать их о чем-нибудь, и когда им было что-нибудь крайне необходимо, то они были обязаны прямо обращаться к самому капитану или, в отсутствие его, к лейтенанту Блю-Девилю.
Но, несмотря на это, среди всех этих молодых девушек находилась одна, о которой мы уже говорили и которая благодаря своему привлекательному характеру, веселости и беспечности достигла того, что сделалась любимицей всех и настолько приобрела благоволение своих сторожей, что пользовалась полнейшей свободой, правда — не выходящей за пределы лагеря, но не мешавшей этому бедному ребенку быть счастливой.
Этой молодой девушке было около восемнадцати лет, она была высокого роста и хорошо сложена; черты ее лица были правильны и дышали такой откровенной наивностью и смелостью, что невольно привлекали к себе и заставляли любоваться ею. В ее больших голубых глазах проглядывало лукавство, а ее белокурые волосы ниспадали длинными косами чуть не до самых оконечностей ног. Ее звали Гарриэта Дюмбар; она была уроженка Ирландии, из окрестностей Дублина. Ее родители были бедные фермеры, которым на своей родине приходилось чаще всего довольствоваться простыми овсяными лепешками, а не белым хлебом, и которые, следуя примеру своих соотечественников, переселились в Америку с целью улучшить свое положение, бывшее столь непривлекательным в Ирландии.
Не успели они еще пристать к нью-йоркской пристани, как их здоровье, сильно расшатанное разными бедствиями, заметно ухудшилось, и они заболели в стране, где были чужды для всех. Через месяц они умерли, как говорили, от тифа, но на самом деле от голода, не оставив ничего даже на свои похороны и покинув в этой негостеприимной стране без всяких средств к жизни свою дочь.
Через три или четыре дня после смерти своих родителей Гарриэта Дюмбар была похищена в восемь часов вечера на Бродвее — этого любимого и модного гулянья всей лучшей нью-йоркской публики, в ту самую минуту, когда она хотела продать пояс своей покойной матери, чтобы купить себе кусок хлеба.
Сначала молодая девушка была очень напугана этим похищением, предполагая, что попала в руки воров или убийц. Самые мрачные мысли овладели ее мозгом, и она заливалась горькими слезами.
Но между тем ее похитители обращались с ней гораздо лучше, чем она могла подумать, и даже берегли ее и ласкали как-то почтительно. Она была увезена за город и помещена в доме, находившемся между двумя садами, окруженными такими высокими стенами, что снаружи их было почти невозможно заметить. В этом доме Гарриэта Дюмбар была принята двумя уже пожилыми дамами, которые поцеловали ее, заставили рассказать историю ее жизни, поплакали вместе с ней о ее родителях и, наконец, меньше чем в два часа так овладели рассудком молодой девушки, что она полюбила их всеми силами своей души.