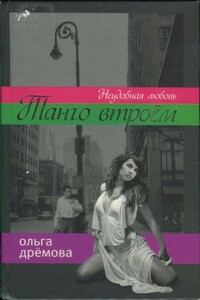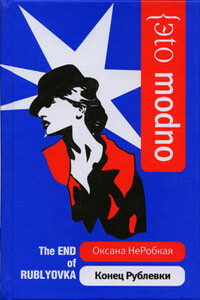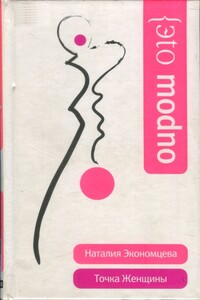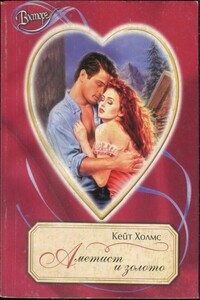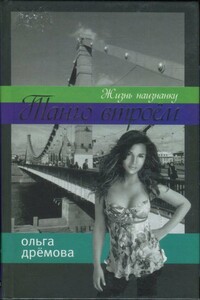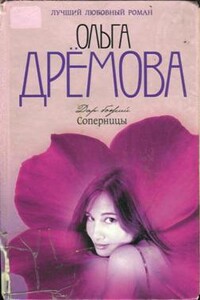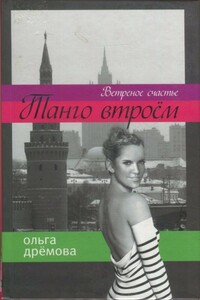* * *
— Ну и как тебя прикажешь понимать?!
Савелий Макарович плотно прижал к ноздрям волосатый квадратный кулак с зажатым в нём стаканом, крепко зажмурился, шумно втянув в себя воздух, и резанул сына недобрым взглядом. Сощурившись, он неторопливо покрутил в корявых пальцах гранёный стакан с остатками мутного самогона на дне, глянул сквозь заляпанное стекло на свет, пробивавшийся сквозь маленькое окошко избы, и с чувством выдохнул:
— Слеза, а не водка!
Горячо пахнув резким перегаром, Савелий Макарович неспешно надломил чёрную краюху, обмакнул хлеб в деревянную солонку, стоявшую перед ним на столе, с удовольствием отправил кусок в рот. Смахнув крошки с усов и бороды, Кряжин провёл по кудрявой чёлке и, откинув своё грузное тело на высокую спинку тяжёлого дубового стула, принялся медленно жевать. Тяжёлые крупные желваки, перекатываясь под кожей, неторопливо ходили со стороны на сторону, угловатые, словно рубленные топором, скулы, а из-под насупленных тёмных бровей сверкали жестокие в своей неподвижности, холодные, отсвечивающие сталью узкие обдирающие щёлочки глаз.
Панический ужас заволакивал сознание тягучей липкой пеленой. Вусмерть перепуганный Кирюша смотрел на эти двигавшиеся челюсти, и ему вспоминались железные зубья ржавого капкана, лежащего в дальнем углу сараюшки. Боясь поднять глаза, он вслушивался в сумасшедшие удары своего колотящегося в ушах сердца и внимательно вглядывался в отцовскую окладистую бороду, в которой застряли мелкие сухие крошки. Сочные, тёмно-вишнёвые губы Савелия презрительно скривились, и в один миг всем своим существом Кирюша почувствовал, как по его лицу шаркнул обжигающий взгляд родителя.
— Так как же тебя понимать? — Губы отца зашевелились, и густая рамка блестящих толстых волос бороды дернулась в такт их движению, но звон в ушах мешал Кирюше сосредоточиться, и, скользнув каплей воды по маслу, слова отца в который раз прокатились мимо него. — Что ж ты молчишь, сопля эдакая, дар речи потерял? Отвечай, когда отец спрашивает! — Савелий Макарович зло пристукнул по деревянным доскам стола, нетерпеливо дрогнул ноздрями с крупными красными порами, и перед глазами Кирюши запрыгали жёлтые и рыжие огненные круги. — Не молчи, убью! — буравя глазами сына, чуть слышно прошептал Кряжин. Заскрипев зубами, он сжал ладони в кулаки, и откуда-то из самой глубины его горла послышался с трудом сдерживаемый рык.
А ведь и правда, возьмёт сейчас за горло своими волосатыми лапами и убьёт. Как щенка задавит! Квадратные ладони отца были огромными, и Кирюша вдруг отчетливо представил сошедшиеся на своей шее огненным обручем обросшие волосами пальцы, и его мгновенно замутило.
— Говорил я тебе, чтобы на Любкином дворе твоей ноги не было? — тихо просипел Савелий. — Говорил или нет, отвечай!
— Говорил, — едва слышно сглотнул Кирюша. — Только не могу я без неё, батя! Я старался, поверь мне, я старался, но не смог, — хрипло зачастил он. — Она как отрава, не могу я без неё, люблю я её, понимаешь, люблю! — Подняв на отца воспалённые глаза в красных прожилках, Кирилл вздрогнул.
— Та-а-к… И на что ты мне прикажешь привязать твоё «люблю»? — ледяной тон отца обварил Кирилла паническим ужасом с ног до головы. Дёрнувшись всем телом, он сжал бледные губы в тонкую, чуть заметную полосу и почувствовал, что каждый волосок на голове поднимается дыбом, мелко-мелко затрясся. — Твоё глупое «люблю» даже на хвост нашей Зорьке не прицепишь, не то чтобы на хлеб мазать. И что у тебя на этой прошмандовке свет клином сошёлся, будто других девок в деревне нет? — сложившись упругим домиком, толстые полосы бровей Кряжина удивлённо выгнулись. — Была б ещё баба спорая, а то так, юла на одной ножке.
Подавшись телом вперёд, Кирилл хотел возразить, но, удержавшись, благоразумно промолчал, только костяшки его пальцев, намертво вцепившиеся в толстые доски стола, побелели.
— Вот и молчи, — резанув сына взглядом, Савелий Макарович с нескрываемым удовольствием посмотрел на его стиснутые руки, и пушистая рамка вишнёвых губ вновь выгнулась презрительной подковой. — Ты — мой единственный сын. И не для того я тебя столько лет растил, чтобы видеть, как ты по своей дури всю жизнь станешь коровам хвосты крутить. Любка, она что, — она баба, и её такое бабье дело, чтоб таким дуракам, как ты, мозги на сторону сворачивать. Чего с неё взять-то? Гладкая да со всех сторон заметная — и ладно. А что мозги у неё куриные, так бабе не мозгами жить, на что они ей, мозги-то? А ты — другое дело, ты — мужик, а значит, разумение должен соблюдать, то есть свою выгоду понимать. Вот оно как.
Видя, что сын опустил голову и глубоко задумался, Савелий Макарович дрогнул правой бровью и заговорил мягче.
— Дурашка ты ещё, Кирюха, дурашка! Что бы ты делал, как бы не я? Голова, она на то мужику Богом дадена, чтобы мысли в ней нужные жили, а не ветер по коридорам свистел да фортками наотмашь лупил. Ты подумай сам, на что она тебе, Любка-то? Ну что, похороводишься ты с ней год-другой, обженишься, настрогаешь детишек полон дом. А дальше-то что? Что дальше-то, я тебя спрашиваю?
Кряжин наклонил высокую запотевшую бутыль с мутным пойлом, налил гранёный стакан доверху и, заткнув горлышко самодельной пробкой, завёрнутой в тряпку, начал нарезать солёный огурец широкими щедрыми кольцами.