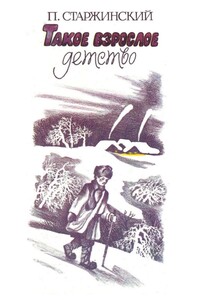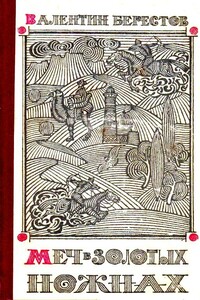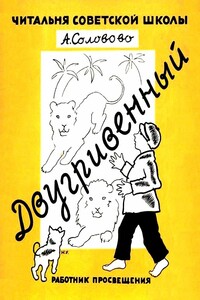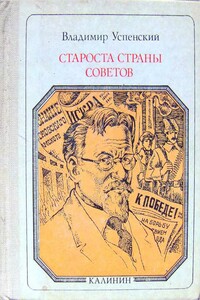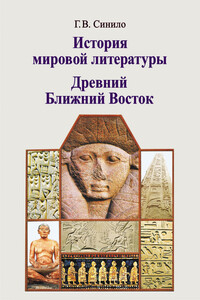Мне не верилось, что наш отец кулак. Потому что он не был похож на него. Кулак на картинках здоровенный и брюхатый, как супоросая свинья. В жилете с цепочкой от часов через все пузо, в юфтевых сапогах, лицо хитрющее, как у крысы. Отца же мать однажды недоростком обозвала. А разденется — плоский-плоский, как скамейка, никакого живота. И лицом приятнее всех отцов на хуторе. Кулака, поди, и называют мироедом оттого, что он весь мир поедом ест. Отец же со всеми хуторскими жил в согласии, уважали его.
Мой двоюродный брат Борька говорил, что отец наш никакой не кулак вовсе, а просто у нас больше, чем у других, коров и лошадей, земли тоже, а главное, отец батраков держал. Еще граммофон только у нас одних. На что уж седой Кулебский богат и самые сладкие яблоки только в его саду, а граммофона не имеет. Уж Борька-то все знает — человеку скоро десять стукнет, почти на полтора года старше меня.
Борька завораживал меня своей уверенностью, своим умением ловко проникать в чужие сады и выкручиваться, когда попадался с поличным. Мне постоянно хотелось подражать ему, но не получалось почему-то. Он знал намного больше меня, даже то, что ни ему, ни мне знать еще не полагалось.
— Вчера к нам заходил дяденька из сельсовета, председатель из Чиркович, который еще к вашей Шуре сватался, да отец чахоточным обозвал его. Мама сказала, что вас и Кулебских могут раскулачить, а потом выслать, — невесело сообщил Борька.
— Куда выслать? — удивился я.
— Не знаю, — задумчиво ответил Борька. — Мама гово-рит — может, в Сибирь, а может, на Соловки.
— А как это раскулачивают?
— Заберут все у вас… Зря твой отец не записался в колхоз. Звали же его, она говорит.
— В колхоз тоже все отдать надо. Так наша мама говорит. Отец все молчит — видно, согласен в колхоз, — а она каждый вечер отговаривает его, до разладу доходит дело, — ответил я Борьке. — А у нас ведь всегда по-маминому выходит.
И впрямь: почему отец не пожелал записаться в колхоз, когда другие записывались? Запишись он — и может, никаких тебе раскулачиваний, выселений из своего хутора, где в заборах каждая дырка известна и каждая вкусная яблоня в садах. Свой хутор Медьведов и все, что к нему прилегало, уж так-то мы по-детски преданно любили, что про высылку и слушать не хотелось.
Хутор наш, из тринадцати деревянных домов с постройками, садами, огородами и пашнями вокруг него, стоял на краю острова, в самой сердцевине южного белорусского Полесья. Никогда в хуторе не было людно, а в страдную пору ровно все вымирало. Летом ни заезжих, ни проезжих. Может, потому, что от остальных людей на земле его отделяло со всех четырех сторон лесистое болото, а соединяли лишь четыре разъезженные из жердняка и хвороста слани. В тех местах их греблями зовут. Когда едешь в телеге по такой гребле — все мозги рассыпаются от тряски. Летними вечерами хуторян одолевали комары, иног-да тоскливо выли в зарослях болот голодные волки или взвиз-гивал вдруг схваченный ими за хутором поросенок. Хуторяне редко покидали свой остров. Каждый выезд в любую деревню за болото считался событием. С вечера смазывалась телега, подвязывалась под ней банка с мазью про запас, чистилась сбруя. Дома вожжи, гужи, чересседельник, поводья веревочные годились, а на выезд сбруя только ременная и дуга чтобы крашеная. На выезд запрягали лучших лошадей, если у кого не одна была.
Редко кто заезжал на хутор со стороны, потому что дороги на ближние города Жлобин и Бобруйск далеко обходили его. Жили на хуторе в основном близкие и далекие родственники. Жили почти сыто, спокойно. Возились от зари до зари со своей малощедрой землей. Хлеб не покупали и хлебом не торговали. Белые булки пекли только на пасху да на рождество. До земли все жадны были одинаково, но не одинаково ее было на едока.

У одной семьи с избытком, а другой, считай, пахать нечего, весь надел лаптем прикроешь. Земля навоз требовала. У кого больше скотины, у того больше навоза и урожай куда выше. Скотине же сено надо на зиму, а с сеном хуторянам медьведовским беда са-мая настоящая: покосы больше по мокрым болотам, по кочкам да в перелесках меж кустов. Оттого отец и все хуторские на покос в лаптях и ходили: вода в лапте не задерживается, зайдет и выйдет, не то что в ботинке или сапоге. К сенокосной страде весь лучший лозняк в округе белел ободранным телом. Содран-ная с него мягкая кора частью сразу шла на лапти, а частью в баранки скручивалась и вязанками сохла под навесом или на чердаке. Потом, когда досуг, баранки размачивали, кроили вдоль полосами и плели из них лапти. Сапоги только в крайнюю слякоть да в праздники носили. Да и то с союзками.
Лодырей в хуторе не водилось. Детей заставляли трудиться с малых лет: сено ворочать, грести, гусей, свиней пасти или дома с маленьким водиться, когда все в поле, на покосе. Вечера я не любил, потому что все, кто старше меня, с работы приходили с закатом солнца уставшими, злыми. Их, старших, пятеро было. Ужинали молча и молча расходились по комнатам спать. Только мать металась, как угорелая, справляясь с домашностью.
Комнат вместе с кухней было пять. Дом наш — на два крыльца и с выходом в сад. У черного входа летними вечерами вечно визжали свиньи, требуя еды. Парадный вход был постоянно закрыт.