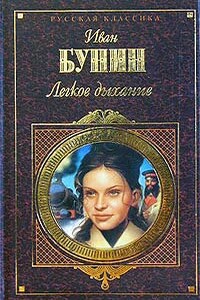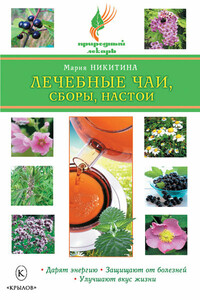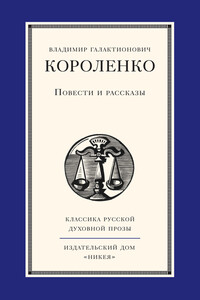Вот что: выйди ты, человече, в ясную ночь из своей хаты, а еще лучше за село, на пригорочек, и посмотри на небо и на землю. Посмотри, как по небу ходит ясный месяц, как мигают и искрятся звезды, как встают от земли легкие тучи и бредут куда-то одна за другой, будто запоздалые странники ночною дорогой… А лес стоит заколдованный и слушает, какие чары встают в нем с полуночи, а сонная речка бежит, и журчит, и бормочет что-то надбережным яворам… И скажи ты мне после этого, чего только, каких чудес не может случиться вон в этой божьей хатке, что люди называют белым светом?
Все может случиться. Вот с знакомым моим, ново-каменским мельником, тоже раз приключилась история… Если вам еще никто не рассказывал, так я, пожалуй, расскажу, только уж вы не требуйте, чтобы я побожился, что это все правда. Ни за что не побожусь, потому что хоть слыхал я ее от самого мельника, а все-таки и до сих пор не знаю: было это на самом деле или не было…
Ну, да уж было или не было, а рассказывать надо, как было.
Раз вечером, после вечерней службы в Новой-Каменке, — а мельница от села верстах этак в полуторах, не более, — мельник вернулся к себе что-то не очень в духе. А отчего бы ему быть не в духе, этого он и сам толком не сказал бы. В церкви все шло как следует, и наш мельник, горлан не из последних, читал на клиросе так громко да так быстро, что и привычные люди удивлялись. "Вот как чешет, вражий сын, — говорили добрые люди с великим решпектом[1], — хоть бы тебе одно слово понять можно было. Чистое колесо: вертится-катится, и знаешь, что есть в нем спицы, а поди-ка, угляди хоть одну. Так сот и он читает: речь как кованое колесо по камню гремит, а слова никак не ухватишь".
А мельник слушал, что люди промеж себя говорят, и радовался. Умел-таки потрудиться для господа бога; языком как иной здоровенный парубок цепом на току молотил, так что даже в горле к концу пересохло и очи на лоб полезли.
После службы батюшка к себе мельника позвал, чаем напоил, да и графинчик с травником на стол поставили полный, а со стола убрали пустой. После этого месяц стоял уже высоко над полями и заглядывал в маленькую, но быструю речку Каменку, когда мельник вышел из поповского дома и пошел по селу, к себе на мельницу.
Из сельских людей кто уже спал, кто сидел при свете каганцов в хатах за вечерей, а были и такие, которых теплая да ясная осенняя ночь выманила на улицу. И сидели себе старые люди на призьбах (завалинках), а молодые под тынами, в густой тени от хат да от вишневых садов, так что и разглядеть было невозможно, и только тихий говор людской слышался там и сям, а то и сдержанный смех или иной раз — неосторожный поцелуй какой-нибудь молодой пары… Эй, мало ли что делается порой в густой тени под вишнями вот в такую ясную да теплую ночь!
Но хоть мельнику не было видно людей, а люди хорошо видели мельника, потому что он шел самою серединой улицы по месяцу. И потому кое-где ему говорили:
— Добрый вечер, господин мельник. А не от батюшки ли вы это идете? Не у него ли загостились так долго?
Все знали, что больше не от кого ему и идти, но мельнику это было приятно, и он отвечал не без гордости и не задерживая шагу:
— Ага, загостился-таки немного! — и шел себе дальше прегордою поступью.
А иные сидели тихонько под навесами и только ждали, чтобы он прошел поскорее и не заметил бы, что они тут. Но не такой был человек мельник, чтобы пройти мимо или позабыть тех людей, которые ему должны за муку или за помол или просто взяли у него денег за проценты. Ничего, что их плохо было видно в тени и что они молчали, будто воды набрали в рот, — мельник все-таки останавливался и говорил сам:
— А, здоровеньки были! Тут вы? Молчите или не молчите, это как себе хотите, а мне должок припасайте, потому что срок завтра, утром раненько. А я ждать не стану, вот что!
И после этого опять шел дальше по улице, и его тень бежала с ним рядом, да такая черная-пречерная, что мельник, человек книжный и всегда готовый при случае пошевелить мозгами, думал про себя:
«Вот какая черная тень, даже удивительно!.. На человеке надета свитка белее муки, а тень от нее чернее сажи…»
Тут поровнялся он с шинком жида Янкеля, что стоял на горке, недалеко уже от выезда. Шабаш уже кончился с закатом солнца, но все-таки в шинке хозяина не было, а сидел жидовский наймит Харько, который всегда заменял Янкеля и его бахорей по шабашам и в праздники. Он зажигал им свечи и принимал своими руками деньги от людей, потому что жиды — это уж всему свету известно — строго наблюдают свою веру: ни за что в праздник ни свечей не зажгут, ни денег в руки не возьмут: грех! Все это за них и делал наймит Харько, из отставных солдат, а Янкель, или Янкелиха, а то и бахори только следили зоркими очами, чтобы как-нибудь пятак или там двадцатка вместо выручки не попала каким-нибудь способом в карман к Харьку. «Хитрый народ, ой и хитрый же! — подумал про себя мельник. — Умеют и богу своему угодить и грошей не упустят. Да и разумный народ, это тоже надо сказать, — где нашим!»
Он остановился у входа в шинок, на площадке, крепко утоптанной множеством людских ног, что толклись тут и в базар, и в простые дни, всю неделю, — и спросил: