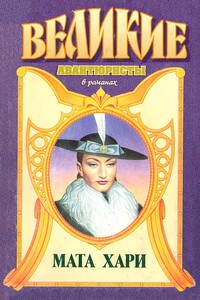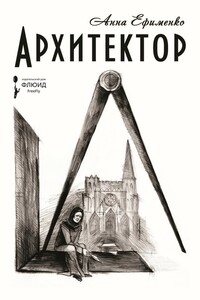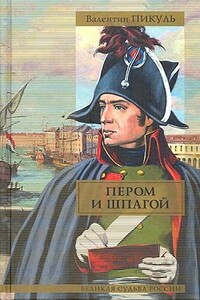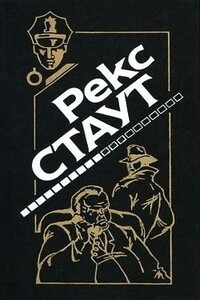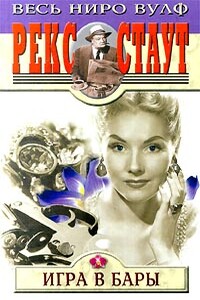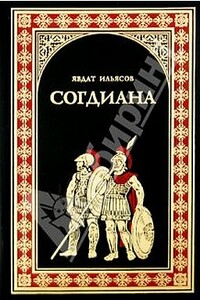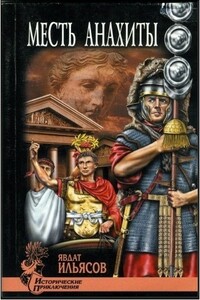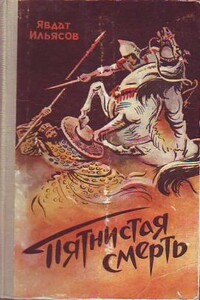Умру прекрасной смертью,
долг свой выполнив.
Софокл, «Антигона».
И две статуи из меди увековечили имя Гикии, а история, рукой Страбона, занесла его на свои страницы…
М. Горький, «Херсонес Таврический».
Дождь. Ветер. Страх. Глубокой ночью, когда в затаившемся городе не дремлют лишь воры да стража, к воротам замка, выскользнув из темного дворца, украдкой двинулось пять смутных теней. Навстречу, угрожающе выставив тяжелую пику, шагнул солдат наемной охраны.
— Не поднимать шума! — услышал он тихий, но твердый голос.
— Стой, — приказал солдат негромко. И шепнул маячившему позади товарищу: — Факел, Зенон.
В колеблющихся лучах факела сверкнули две серебряные змеи на лавровом жезле.
— Ты, Поликрат?
— Я. Открой калитку.
Солдат, мягко вскинув факел над головой, пытался разглядеть лица людей, сопровождавших глашатая, но капюшоны шерстяных плащей спадали у них чуть ли не до подбородка.
— Кто с тобой?
— Рабы. Пошевеливайся.
— Куда так поздно?
— К чужой жене. Куда еще ходит мужчина ночью, остолоп?
Страж отворил, гремя цепью и засовом, узкую калитку, вделанную в огромный створ ворот. Пятеро легко скользнули в черную пустоту и ушли в сырую темень.
Дождь прекратился.
Под ногами, в широких выбоинах мостовой, хлюпала и плескалась ледяная вода.
Сквозь мутные разрывы в аспидных тучах пробивался рассеянный, чуть желтоватый свет луны.
Вот она и сама выглянула на миг в углубившийся синий просвет. Круглая и белая, в темных пятнах, подобных глазницам и провалу мертвого рта, она оскалилась во влажной дымке, словно человеческий череп, заговорщицки-понимающе кивнула путникам и опять скрылась за мохнатой черной пеленой. Один из рабов чуть слышно взвизгнул, точно собака, поджавшая хвост.
Путники торопливо спускались по крутой, как горная лощина, тесной улице. Три раза их останавливала стража, но лавровый жезл Поликрата пресекал всякие расспросы.
Они добрались до зловонных трущоб Нижнего города и очутились в таких глухих и грязных закоулках, что казалось — никогда не выбраться отсюда.
Но Поликрат, очевидно, хорошо знал дорогу. Коротко махнув палкой, он без слов показывал рабам направление, и те также безмолвно следовали прямо или сворачивали за покосившийся угол.
Низкая, вросшая в землю хижина, похожая на десятки других безобразных лачуг, пьяно лепившихся одна к другой по обе стороны улицы.
Поликрат остановился.
— Ждите здесь.
Он ловко нырнул в темный пролом стены и оказался под убогим навесом, среди беспечно разбросанных пустых амфор. Маленькая дверь с медной решеткой наверху. Поликрат нанес по мокрому косяку три двойных удара. Внутри тяжело завозились. Послышался хриплый голос:
— Кто?
— Гость.
— Враг?
— Друг.
— Имя?
Поликрат воровато оглянулся, приник лицом к решетке:
— Стрела и солнце!
Дверь отворилась. Гость ступил через порог. В нос хлынула смешанная вонь соленой рыбы, гнилой капусты, винного перегара.
Хозяин вытащил из жаровни тлеющую головню, зажег глиняный, с отбитым краем, светильник. Тощий, косоплечий, с взлохмаченной бородой, он сидел у низкого стола, заваленного остатками пищи, и неприветливо смотрел на посетителя. В углу, на куче прелого тряпья, кряхтела во сне женщина.
— Ну, чего тебе?
Вместо ответа гость, не поднимая капюшона, протянул через стол пластинку с желтым кругом, косо перечеркнутым черной стрелой.
На рябом заспанном лице хозяина промелькнул страх. Он поспешно вскочил с места, выдвинул скамью на середину комнаты и неуклюже махнул рукой, приглашая сесть.
— Я тороплюсь, — отказался гость. — Где главарь?
— Главарь? — Хозяин сделал вид, будто очень удивился. — Какой главарь?
— Самый большой.
— Самый большой? Хм… — Рябой замялся. — Прости, добрый человек, но… откуда тебе известен наш условный знак?
— Не твоего ума дело. Где Драконт?
— Драконт! — Хозяин пугливо отступил в угол. — Я не могу этого сказать.
— Скажешь, иначе не поздоровится.
— Ох, боже!
— Ну?
— Наши молодцы… хм… наши молодцы укрылись в заливе Большого Ромбита.
— А Драконт?
— Др… раконт? Он… э-э… должно быть, с ними. Откуда мне знать, добрый человек?
— Ему письмо. Вот оно. Не потеряй. Никому не показывай. Отдашь в собственные руки.
— Хорошо, добрый человек.
— Получай. Тут десять драхм. Пригодятся, я думаю.
— О! Благодарю, гость. Конечно, пригодятся. Я не видел еще осла, которому не пригодились бы десять драхм. От души благодарю.
— Отправишься, как только откроют городские ворота.
— Слушаюсь. В гавани, у мола, привязана моя лодочка. Ветер, кажется, будет попутный. Через пару дней, пожалуй, доберусь до места.
— Будь здоров.
— Счастливо дойти, брат…
На горе Митридата с широких ступеней у входа в Белый дворец взметнулся к небу острый крик скифских вождей, явившихся в Пантикапей[1], столицу Боспорской державы, по зову монарха.
Так, согласно туземному обычаю, они приветствуют солнечный восход.
Их пронзительный вопль разбудил Асандра.
Пытаясь уйти от настойчивых звуков нарождающегося дня и вновь окунуться в сонную пустоту, царь потуже натянул на голову одеяло, но покой отлетел уже прочь.
Грек беззвучно выругался. Проклятье! Почему стража позволяет всякому сброду горланить возле дворца?
Старик долго не открывал закисших глаз, лежал, со слезливой досадой ощущая тупую боль над бровями, вязкую горечь во рту и резь в животе. Отдых не освежил царя. Боже! Когда он избавится от мучений? Пожалуй, теперь уже никогда. Или, вернее, скоро. Ведь Асандру — девяносто третий год. Быть может, завтра он совсем не проснется.