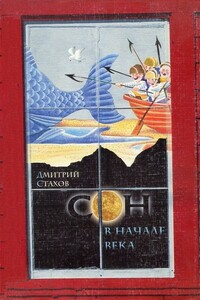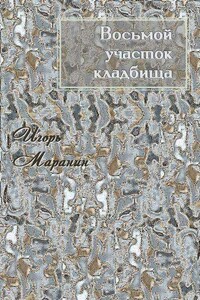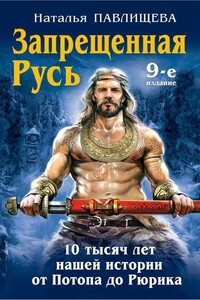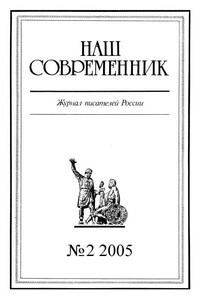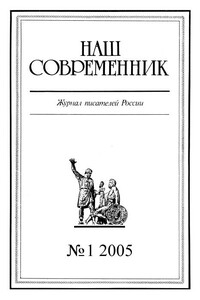Писатели, как известно, — это граждане, которые в основном выступают по телевидению. Конечно, иногда они и что-то пишут, но кого, собственно, интересуют их скучные и монотонные писания, когда даже самый сногсшибательный роман можно во многих телевизионных сериях просмотреть по волшебным волнах голубого эфира?
Для всего нашего великого народа писатель — это несносное существо. Все как один они полны кичливости и самомнения. Ходят слухи, что все писатели богатеи, по крайней мере в публичных писательских склоках, о которых регулярно и ярко во имя гласности нам рассказывает телевидение, фигурируют многоэтажные дачи и машины, несусветные гонорары, поездки с женами за рубеж. И это, конечно, правда! Что им еще, этим бумагопереводителям надо, что делят, о чем кричат? Я бы на их месте в наше сумасшедшее время вообще помалкивала, набрала в рот воды, и как положено в таких хлебных случаях, дружненько и согласованно хранила и тайну своих заработков, и тайну своих ссор. А то ведь все отнимут, приватизируют, конфискуют, в том числе и их непомерные библиотеки — предмет будущей книжной спекуляции. И аннулируют их сомнительные права на дополнительную жилплощадь. А они все чем-то недовольны!
Вчера вечером телевизионная информационная программа, которая наконец-то стала выходить безо всяких там звездочек, башен и патетической громкой музыки, показала новую писательскую склоку. Кого-то из персон в их писательском чванливом генералитете закрыли, сместили, переизбрали — я в этом принципиально разбираться не хочу, но приятно, что действовали, нервно вздергивали подбородками и вращали безумно глазами те же самые, привычные по многим другим передачам люди. Пи-са-те-ли! Но с другой стороны, устраивать шум оттого, что какой-то мелкий региональный Союз этих самых писателей в пылу революционной бдительности и энтузиазма закрыли! И правильно, что закрыли. К чему устраивать бессмысленную войну суверенитетов. Всему свое время: было время суверенитетов, теперь, когда, можно сказать, на столе сладкие плоды победы, — к чему это трепыхание? Все кормятся из одной кормушки. Ну, одному немножко больше, другому немножко меньше. Не бьют же копытами друг друга благородные животные-кони, когда пьют воду из общей колоды. У животных нам нужно учиться мудрому современному коллективизму. Закрыли? Прекрасно! Откроют с новыми людьми во главе… Демократия создана для того, чтобы наедались по очереди все и чтобы энергичный ел побольше. В этой жизни каждый должен испытывать свои неудобства. Но все равно мне нравятся лица новых писательских лидеров вместо этих бородатых. Мне вообще нравится все новое, ведь если порассуждать: зачем нам результаты и исполнение желаний, гораздо важнее движение.
После информационной программы я вышла на нашу общую кухню, чтобы на утро заварить кашу из «геркулеса»- утреннюю еду народа. Крупа, к счастью, еще имелась, ибо я запаслась еще год назад, когда не было талонов, ограничений и кое-что выбрасывали на прилавок. Не успела я вскипятить воду, как на кухню вплывает милый соседушка Серафим Петрович.
Он, этот занудный эстет, этот ничтожный профессоришка, этот фотолюбитель с библейским аппаратом марки «ФЭД», конечно, никогда бы не осмелился, особенно в последнее демократическое время, без приглашения и спроса задавать мне какие-нибудь вопросы или высказываться вслух. А то, что мы знакомы с ним тридцать шесть лет, со дня моего рождения, не повод к развязности. Я уже давно взрослая, я — дома и уже сама давно мать. Есть мнение — держи при себе, сопи про себя. Чего-чего, а уж свободы тайных размышлений в нашем государстве было всегда в достатке. Без спроса Серафим мог в квартире разговаривать только со своим бобиком, таким же потертым и в пересчете на человеческие времена шестидесятилетним рыжеватым псом Чарли, и то, конечно, не на общей кухне или в коридоре, где нахождение собаки негигиенично, а лишь в своей тухлой комнате за закрытой дверью и плотно задернутой некогда бархатной портьерой. Дом — это моя священная крепость и я бы никогда не позволила никому повышенных интонаций и громких нот. У меня у самой достаточно нервная работа, почти одна за всех в редакции одной из самых крупных городских газет, и на руках современный издерганный ребенок тринадцати лет, который должен учиться, готовить уроки и приобретать необходимые знания. Я воспитываю прелестную девочку Марину, которая так и ищет возможности отлынивать от душеспасительного чтения, так и готова, вострушка, реагировать на любой шум и отвлекающий маневр. «Мамочка, а кто это на кухне говорит?», «А это не Казбек пришел?», «А Серафим уже Чарли выводил?», «Мамочка, а я все уроки уже выучила — можно, я погуляю во дворе полчасика?»
Итак, в очень чистую, до блеска отмытую эмалированную кастрюльку — я по натуре чистюля, аккуратистка, в конце концов аккуратность — это знамя честной бедности, — лью я из чайника на уже отмеренный стакан «геркулеса» крутой кипяток, лью- поливаю, как выходит милый и занудливый соседушка и на подносике несет мыть чайную чашку, розеточку из-под варенья и ложечку — они интеллигентно перед огнедышащим телевизором пили чай. Вообще наш Серафим это какое-то немое кино. Я его знаю, как уже сказала, практически со дня своего рождения, но ведь даже за мои тридцать шесть лет он никак не изменился — кому суждено быть растяпой, тот растяпой так и останется на всю дальнейшую жизнь. И очень правильно, что еще до моего рождения его бросила жена. Такие недоделанные люди ничего не могут по-настоящему волнующего дать женщине и не должны, дабы не портить человеческую породу, иметь детей. Видите ли, по утрам они слушают музыку. Я сама женщина, как полагают многие, вполне интеллигентная и совершенно не против, когда по радио звучат куплеты из веселой оперетки «Перикола» — «Каким вином нас угощали…» или что-нибудь из грандиозного «Евгения Онегина» — «И мы при-ехали сю-да, де-вицы, да-мы, го-спо-да, пос-мот-реть, как рас-цве-та-ит она…» Прелесть! Но какой-то по утрам музыкальный абстракционизм на иностранном языке. И каждый раз, когда открывается дверь в это так называемое интеллигентское логово и выплывает преподобный соседушка Серафим с каким-нибудь кофейничком или сковородкой, на которой была яичница, а из-за портьеры вдруг выскальзывает какое-нибудь визгливое пиликанье и дурные, как пила, голоса, Серафим, будто извиняясь, над нашкодивший кот, каждый раз говорит: «Это Беллини» или «Сегодня я прослушиваю „Навуходоносора“ Верди». Разве мне не известны эти иностранные имена? Разве, когда я ношу по этажам редакционного здания газетные полосы, я не заглядываю в них? В нашей вполне культурной, «с направлением», газете я встречала имена и покруче: Метастазио и Шимановский. А?