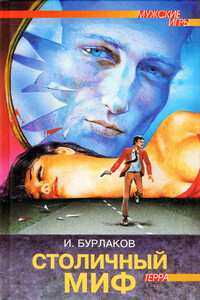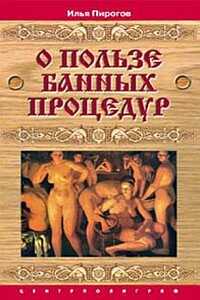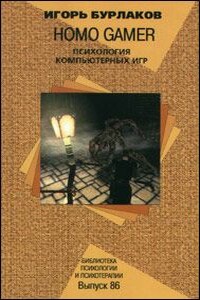Держите в голове полноту бытия. Полнота бытия — вот что имеет отношение ко мне, рассыпанное, как в осколках зеркал. Мы отражены в тысячах зеркал, которые не собираем, хотя эти отражения и есть мы.
Мераб Мамардашвили.
Введение в философию, с. 42
Мглистые заснеженные болота лежат на Руси вольготно и нескладно, точно пьяный мужик, в жесткой щетине кривых елок и серой ольхи; гнилой от самого своего рождения, колючий болотный цветок распускает холодные корни под жидкой грязью, накрытой снегом, белым снегом, что блестит под луной… Жаль, не было луны этой ночью, лишь туман цеплялся за снег. Мрак и туман. На редкость спокойная ночь. По кочкам и топям, что ведут грешных в ад, никто не скитался; не выли, не рыскали и не пугали прохожих пустым взглядом остановившихся глаз волки — голодные и злые, как провинциальная мафия.
Они чувствовали приближавшуюся с северо-востока бурю.
Над туманом и шестью слоями непробиваемой облачности светят звезды. На высоте десять километров воздух всегда чист. Лишь пыль перистых облаков пудрит Млечный Путь. Пустое пространство, звезды, ночь, холод. Разреженный воздух неощутим. Когда-то поднявшись с теплой земли, его струи больше не несут никому жизни. Он только дрейфует, дрейфует, дрейфует…
Он дремлет. Он спит. Пока хлесткий удар изогнутой стальной лопатки не порвет его сон. Все ближе вой, и адский звон, и вонь керосина — камера сгорания. Здесь летит между стен белый огонь, здесь чудовищная теснота, непереносимая давка; доля секунды в несусветной жаре — и после облегченное соскальзывание с сопла… В тьму, в холод, назад сматывается пушистая нить инверсионного следа. Час за часом она будет превращаться в ничто.
Покой. Снова приходит покой. Холод. Бесконечный холод. Звездный свет, летящий насквозь.
Две толстые турбины исправно качали через себя атмосферу. Изогнутый киль с шипением баламутил воздух. Маленькие черные электроны честно носились по своим беспросветным и бесконечным коридорам. Лайнер из Акатуя шел к Москве верным курсом.
Сонная одурь, душное забытье плавало в его полупустом салоне. В шестом ряду, справа от прохода, откинув голову на закрепленную на липах одноразовую салфетку-подголовник, дремал мужик лет сорока. Возможно, он был тощ. Возможно, ему просто великоват костюм. Или он не умел его носить. Или не любил.
Скуластое лицо. Ночной самолетный свет выделывал кожу в пергамент. Дрогнув, приоткрылись веки. В узкой изогнутой щели, точно посередине, зажглись золотые кольца.
Проснувшись, он ждал, пока неслышно шедшая по проходу из задней части салона стюардесса наконец дойдет и до его кресла. Она улыбнулась ему — ему люди отчего-то улыбались охотно. Откинула столик, поставила белый стаканчик с толстыми пенопластовыми стенками.
Горячий чай. Между небом и землей, между двух зорь, что может быть лучше? Душистый отвар черной жесткой травы, бывшего зеленого листа, терпкий и немного вяжущий — как и следует быть крепкому, настоящему чаю, чей цвет — благородное красное дерево.
Приятно пить чай, чувствуя, как далеко внизу проскакивают в секунду десять телеграфных столбов и знать, что на выглаженной ледником равнине изморозью покрываются гранитные валуны — противотанковые надолбы доисторического производства. Их укрыл до времени поднявшийся из подтаявших болот непроглядный туман. Поднявшийся и запутавшийся в непроходимых кривых перелесках.
Действительно, что может быть лучше?
Что может быть лучше: стюардесса у малиновой плюшевой занавески перед дверью в кабину пилота. Обернулась; полууспела полуприкрыть зевок. Ах, как хороша!
Как светлы ее волосы, и как голубы глаза, и мягкость в ней, и женская истома, и, господи, — ах, как хороша! Для мужиков любовь почти всегда секс, с ней можно было бы заняться любовью, она к этому располагала.
Стаканчик с чаем в руке у рта под тяжестью мечты начал крениться. Капля кипятка потекла по его отогнутому краю, набухла и, неохотно, как лепесток созревшей розы, упала вниз. Впилась в шерсть черных брюк. От внезапной нежданной боли дернулась рука. Чай сразу разлился весь.
И вот тогда в своих глубоких норах в заболотье взвыли волки. Небесные твари, что рыщут ночью в поисках корма — тощего зайца или хлопотуньи мышки, — попрятались раньше, чем первый ком мокрого снега пригнул чахлые деревца и, разбившись о землю, закружил липкой слепой пургой. Злая молния прожгла воздух. И еще одна. И потом почти без перерыва — словно кто-то лупил в ярости огненной палкой по земле.
Вьюга сбросила ставни с окошек домов брошенной деревни и вертела и трясла своими белыми юбками в пустых комнатах в диком бесстыдном танце — что там канкан…
Страшны деревни, где нет ни одного освещенного окна, давно нет. Где ветер и снег тянутся по выстывшим половицам. И где в печи лежит снег.
Но не все крестьяне сбежали в города. Кто-то прилег до страшного суда на погосте у околицы. Десяток могил под косыми сгнившими крестами с облупившейся темной краской. Поваленная ржавая железная ограда. Низкие продолговатые холмики там, где крестов уже нет. Время — басурманин, что ему вера?
Под полутора метрами тяжелой глины, под горбатой березовой крышкой у мертвецов раскрылись глаза: тревожный сон закончился с первым ударом молнии. Они смотрели вверх. В зенит. Туда, где сонный автопилот, жужжа гироскопами, вел самолет с северо-востока к Москве.