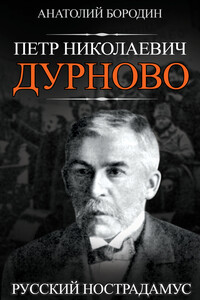«Лучшая доля для смертных — на свет никогда не родиться», — утверждали древние греки[1]. Одна из моих хороших знакомых, физик, ликвидатор Чернобыльской аварии, в течение нескольких лет угасавшая (к счастью, без мучительных болей), незадолго до смерти, подводя итог своей жизни, не раз повторяла: «Самое лучшее — не родиться». Я ставлю вопрос немного иначе: стоило ли родиться? И стоило ли вести борьбу за счастье с негодными средствами? Я ищу ответ на эти вопросы в ретроспективном взгляде на свою жизнь, именуемом воспоминаниями.
Представленные здесь воспоминания охватывают период от лета 1929-го по осень 1944 года, соответственно от моих трех до восемнадцати лет.
Я не Мата Хари, факты моей биографии сами по себе вряд ли кого-либо заинтересуют. Конечно, я пережила все, что происходило в стране, — не в лучшем, но, слава богу, и не в худшем варианте. Но, поскольку мы вкушаем жизнь («вкушая, вкусих мало меда» Библии) и вкус ее у каждого из нас свой, хочется показать, каков этот вкус у меня, воссоздать жизнь в картинах с атмосферой времени, какой она была для меня.
Человек видит мир из себя, и ему бывает трудно представить, понять, что другие люди видят мир иначе. Вот это интересно — мир, увиденный другим человеком.
Я пишу правду, в написанном нет никакого вымысла, но повествование, представленное, как говорится, на суд читающей публики, не полно, есть исчерпывающий вариант, включающий то, что, будучи прочитано чужими глазами, может причинить мне страдание.
Удалось ли мне воссоздать этот мир, судить читателям, коли таковые найдутся. Чтобы хорошо писать, нужно родиться вундеркиндом по восприятию мира.
Е. Шор
2005 г.
Если долго не было дождя, дороги в полях бывают покрыты мельчайшей, нежной пылью, по которой хорошо ходить босыми ногами, если бы не причиняющие боль твердые комочки земли. Днем обжигающе горячая, вечером теплая, ночью и утром неприятно холодная, пыль пролезает между пальцами ног. Рожь, васильки, подорожник, горячая пыль создают тонкий, чуть раздражающий и как будто насыщающий запах. Воспоминание об этом аромате соединяется у меня с воспоминанием о девушках из больших сел и маленьких городов. Эта порода теперь вывелась.
Это были тихие девушки с белыми шеями, с гладко причесанными и разделенными пробором (где белела кожа головы) тонкими и мягкими волосами, с задержанными движениями, — преувеличенные скромницы, любящие рукоделие. Они говорили медленно, грудными голосами, иногда, без всякой причины, переходя на шепот. Они были лишены кокетства, но краснели и, замирая от смущения, казалось, были близки к обмороку. Они стеснялись своей женственности и всеми силами старались скрыть томящую их чувственность, но не могли обмануть даже ребенка.
I
До того лета (1929) меня не было. Когда я началась, мне было уже три года и два или три месяца. Мы снимали дачу в Хорошевке под Москвой. Маленький летний дом из желтых крашеных досок и с красной железной крышей стоял у заднего забора, а около улицы находился светлый оштукатуренный дом, более высокий — как мне объяснили, в два этажа. К нашему дому оттуда вела песчаная дорожка, а перед домом была маленькая клумба.
Хотя меня до того не было, вместе со мной возникло в небытии знание многих вещей, мир не был для меня совершенно нов. Редкие ягоды, красневшие на вишне у двери нашего дома, манили меня: значит, я предполагала в них сладость. Около меня были взрослые люди, и я знала, что это мои взрослые: бабушка, мама, еще кое-кто. Из их разговоров я узнала, что в небытии действовала: это я назвала дядю Марка дядей Ма, а дядю Юру дядей Ю.
В это быстро закончившееся время «прежде» и «теперь», представляемое в голове и происходящее в настоящий момент, еще плохо разделялись для меня.
Бабушку ужалила пчела, когда мы все сидели за столом под вишней. Пчела ужалила бабушку, бабушка поддерживала ужаленную руку другой рукой и готовилась последовать одному или нескольким из посыпавшихся советов, как унять боль и сдержать вздувающуюся опухоль. Я видела бабушку, они говорили, что меня когда-то раньше тоже ужалила пчела, и мне чудилось, хотя я не чувствовала боли, что я реву и что это к моей руке должны приложить сырую черную землю.
Как бы ни было сильно и непроизвольно воспоминание, никогда потом я не могла бы принять его за действительность, память неумолимо относит его к прошлому. Но в то лето я во-очию видела себя стоящей на дороге, от которой были в обе стороны отодвинуты стены сосен. Маленькая группа взрослых — мама, бабушка, дядя Ма, незнакомые мне мужчина и женщина (гости, приехавшие из Москвы), — разговаривая, уходила вперед, все дальше от меня. Сосны были высокие, а я — у самой земли, стволы сосен рыжевато-розового цвета были обнажены, ветви начинались высоко вверху. Подул ветер, и сосны, угрожающе зашумев, гибко закачались. Мне показалось, что они раскачиваются от самой земли и вот-вот упадут на дорогу. От страха у меня сперло дыхание, и я не сразу смогла закричать.
Это была поездка в Серебряный Бор, и хорошо, что память сохранила воспоминание о способе вспоминать того времени — так в Библии находят письменное свидетельство о дописьменном, племенном и кочевом образе жизни: существо, каким я была в мои три и четыре года (и отчасти в пять лет), больше отличалось от всех последующих — шестилетнего, шестнадцатилетнего и так далее, чем эти позднейшие существа друг от друга.