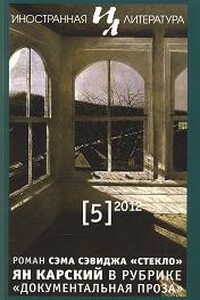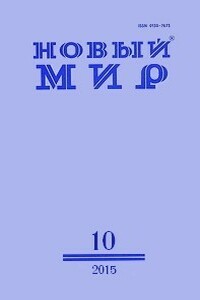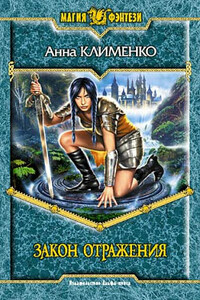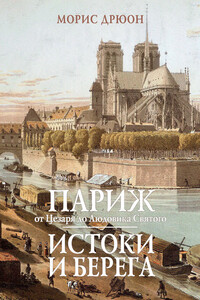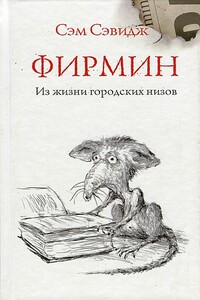Жаль, выше головы не прыгнешь. Не то нам, как на ладони, открылось бы до чего безнадежно мы озабочены собственными заботами. Что ж, придется довольствоваться теми мыслями, какие у нас есть, и не думать о том, о чем хотелось бы думать.
Джаспер Джонс в беседе с Деборой Соломон // Нью-Йорк таймс, 19 июня, 1988.[1]
Всю жизнь я слишком далеко была от всех,
Я не махала, я тонула.
Стиви Смит[2]
Я вот все думаю. Я чересчур много думаю, мне еще Кларенс говорил, если я с ним стану спорить, когда он нес разную муть, с ним бывало, с пьяных глаз особенно. Я сейчас не собираюсь рассусоливать, как он пил да как он нес разную муть, я теперь про Кларенса вообще не думаю, просто к слову пришелся, вот и упомянула, а упоминая о ком-то, о нем, естественно, думаешь, исключительно в этом смысле, и все. А вот о чем я на самом деле думаю, так это о путешествиях, но опять же не в том смысле, чтоб суетиться, быть наготове предпринять какие-то, скажем, шаги — броситься на автобусную остановку и прочее, или даже листать цветные брошюрки, — как будто я действительно могла бы пуститься в путь, только пожелай, хоть желать-то как раз я желаю, но смотря что значит «в путь», смотря что значит «желать». Желать в этом именно смысле — значит иметь желание, но притом его не связывать ни с какими предстоящими действиями, безнадежное желание, вот что это значит, наверно. И, по-моему, самое подходящее слово для такого желания — склонность, вот. В последнее время у меня все больше и больше склонностей, и одна из них — склонность к путешествиям, безнадежная тяга, охота пуститься в путь, странствовать, кочевать неведомо куда. Но вот еще подумала и вижу, что даже слово склонность тут слишком сильное слово, поскольку обозначает хоть слабенький, но порыв, а он у меня в последнее время уж слишком, уж чересчур слабенький. А на самом деле, если честно, нет у меня желания путешествовать, даже безнадежного и невозможного желанья нет, особенно сейчас, когда я вот только что снова стала печатать. Скорей мне нравится иногда воображать места, какие можно бы посетить, если отправиться в путешествие, что я и делала несколько минут назад, пока меня не отвлекла эта мысль про Кларенса, совершенно непрошенная причем. Я сидела за столиком у окна, за которым я завтракаю и на котором в данный момент стоит моя пишущая машинка. Я и сейчас, очевидно, за ним сижу. Сижу я прямо, расставив локти, ну, только чуть-чуть ссутулясь. Я в голубом платье. Я буду печатать всякую всячину и помимо Кларенса, в том числе и то, что еще взбредет мне на ум, мало ли. Вот говорю, и приходит в голову, что в огромной куче всякой всячины, какой голова набита, Кларенс стал только частностью. А прежде чем это сказать — непроизвольно, я объясняла уже, — я о нем вообще не думала. Столик маленький, круглый, ножки книзу сужаются, пластиковая столешница. Я тут завтракаю, потому что окна выходят на восток и можно перед ними сидеть с чашечкой кофе, когда восходит солнце. Солнце встает, сияя, над фабрикой мороженого, и свет сияет и течет сквозь большие окна, и я делаю первый скромный глоточек. И часто вместе с этим первым глоточком слова «ведь я этого достойна» приходят в голову и там сияют. Наверно, такие минуты и есть то самое, что называется «маленькие радости жизни». Солнце всходит, фабрика мороженого грохочет, и мне иногда воображается, что этот грохот именно и есть звук восхода, как в стихах у Киплинга, я их в детстве любила, где заря приходит в бухту, точно гром из-за морей [3]. В этой комнате все окна смотрят на восток, но свет сияет и течет исключительно в одно, в среднее из трех, одно светлое среди двух темных, поскольку эти два в основном заклеены записочками и кусками скотча, в них солнце только еле-еле сочится, и только несколько косых лучей, пробившись в щели, ложатся на пол яркой лохматой рогожкой. Увидал бы Киплинг, как заря приходит вовсе даже в нашу улицу, причем из-за фабрики мороженого, он был бы не в восторге, я уверена. А то бывают дни, когда тучи напрочь застят небо, и я даже разобрать не могу, где оно, это солнце, и такая на меня нападает тоска, непонятно даже, зачем это все влачить, и, когда пасмурные дни зарядят один за другим без просвета, а в последние годы за ними такое все чаще водится, дела до того доходят, что я могу разреветься из-за пустяков. Под «делами» я подразумеваю в основном свои мысли. Открыла холодильник как-то утром и там не оказалось молока, кажется, ну и подумаешь, а я села и разревелась. Проснулась, а снова дождь. Лежала, слушала, как он шумит, тешилась мыслью, что вот скоро встану, свернусь калачиком со своим кофейком в своем большом кресле у окна, воображала, как буду смотреть на дождь, и так приятно, что сама сидишь в тепле, сухая. И после этого встать в полумраке, прошлепать на кухню и обнаружить, что молоко прокисло и теперь придется либо пить кофе без молока, либо тащиться в лавку под дождем — ну и, естественно, я села и разревелась. В добавление к столу у меня есть кресло и скамеечка для ног, прямо перед креслом, и это, наряду с диваном, книжной полкой, угловой подставкой под телефон и двумя прямыми стульями — они составляют комплект со столом, — вся моя мебель для гостиной, не считая радио — желтого маленького «Сони» на подоконнике, рядом с креслом. Когда сажусь в кресло, ноги я ставлю на скамеечку, мне рекомендовано, из-за отечности, но я не потому их туда ставлю, я их туда ставлю потому, что мне так удобно. Сижу, смотрю через бугристые колени на свои ноги, зрелище в последние годы все печальней, из-за этих ветвящихся речными дельтами синих вен. Мне удалось распознать Замбези и Магдалену, кажется, хотя насчет Магдалены надо еще проверить по более подробному атласу. Кресло обито чем-то черным, бархатистым, скамейка тоже черная, но другого оттенка, мои ноги обиты шелудивой кожей и в последнее время стали дряблые, ткнешь, и ямка остается. Когда я была маленькая, как-то папа при мне сказал, что мама в черной мерехлюндии, и я подумала — зачем так говорить, ведь я же вижу, она на аллее, в синем автомобиле. С тех пор мне нравится это выражение, с ним связаны забавные картинки, хоть вслух я теперь его уже не произношу, с кем я теперь говорю, никто не поймет, о чем речь, но, сидя в своем черном кресле, иной раз и вспомнишь. «Эдна в черной мерехлюндии», — так я иной раз думаю. Под теми, с кем я теперь говорю, я имею в виду, с кем пришлось пообщаться за последнее время, то есть молодых людей за стойкой в кафе, официантку в стекляшке, Поттс, ту девицу из агентства, того мужчину в мастерской пишущих машинок, водителя автобуса, больше никого не припомню. Есть у меня и другие знакомые, они бы, конечно, поняли, что значит черная мерехлюндия, но в последнее время я с ними не разговариваю, не то что я с ними не разговариваю в том смысле, что мы в ссоре, просто в последнее время я ничего не говорю в их присутствии — прошлым летом, вот когда я перестала что бы то ни было говорить в их присутствии. Или еще мне выражение нравится — «впадать в отчаяние», как будто ты скользишь, скользишь и не удерживаешься, соскальзываешь, впадаешь в отчаяние. Отчасти в таком смысле я соскальзываю, впадаю в свое большое черное кресло. Есть и другие выражения, похожие — «на грани срыва», «на краю банкротства», «за гранью приличия», «вне пределов порядочного общества» и так далее и тому подобное. Уже по этим выражениям вы легко можете заключить, что на любом поприще нас подстерегают ухабы и ямы. Я причем совершенно не собираюсь оправдываться. Я на службу не хожу с середины января. Как-то рано утром, в тот самый час, когда вообще-то в будний день я кидалась вниз по лестнице, паникуя, что пропущу автобус, я не кинулась вниз по лестнице. Постояла-постояла на площадке и вернулась. Я не раздумывала, о чем тут раздумывать. «Эдна вдруг так и застыла, с абсолютно пустой головой», такое было чувство. Конечно, я кидалась вниз по лестнице мысленно, то есть я хочу сказать, в панике, что опоздаю, не то чтоб физически скакать через три ступеньки, что в моем возрасте было бы самоубийственно, буквально. И я, когда в последний день была на службе, даже не предполагала, что не вернусь. Толком ничего не уложила, свои замшевые наушники и те оставила болтаться на спинке стула. Сперва звонила каждый день, что, мол, больна, потом в несколько дней раз. Потом и вовсе звонки свои прекратила, дожидалась, когда сами позвонят. Теперь никто не звонит. Я перестала ходить на службу, потому что нет сил как надоело. И просто загадка, как этот аппарат вдруг снова оказался у меня на столе. Я его несколько недель назад сюда поставила. Выволокла из самого дальнего угла чулана, разгребя кучу хлама — книги, шмотки, одеяла, обломки стула — все пришлось вывалить на кровать, чтобы добраться до нее, до пишущей машинки. Как поставила ее на стол, хотела сразу же печатать, даже по клавишам прошлась несколько раз, проверила, нет, не западают, но сразу же я поняла, что лента пересохла. Конечно, этого следовало ожидать, столько лет вещь простояла у меня в чулане, но лично я этого не ожидала, про эти ленты я вообще не думала, а я ожидала на самом деле, что сразу сяду и стану печатать. Даже не помню, сколько лет, наверно, десять, или одиннадцать, раз я живу в этой квартире четырнадцать лет, и через первые года два-три вообще перестала здесь печатать. И вся загадка в том, почему я вдруг решила снова за это дело взяться, снова начала печатать после такого перерыва. Один день я пялюсь в окно, или спокойно жую за своим столиком овсянку, или, как уже упоминалось, я плачу, а на другой день я печатаю, здрасте. Не скажу — весело печатаю, или даже бодро, но ведь печатаю же, аккуратно, с приличной скоростью, соответственно. Когда я еще только переселилась в эту квартиру, я кое-кому писала письма, хоть все трудней было придумывать, что бы такое написать, кроме всякой чуши, как поживаете, сама я ничего, соответственно, если, конечно, не оправляешься после гриппа или чего-то подобного, и тогда об этом, ясное дело, упомянешь. Скоро стало ясно, что я ничего не пишу такого, что не уместится на открытке, и я стала посылать открытки, тогда и перестала печатать, поскольку открытка — такая вещь, которая пишется от руки, и, наверно, вскоре я упрятала машинку в чулан, и так рухляди хватает, вечно на нее натыкаешься. Конечно, можно и открытки печатать на машинке. Недостаток в том, что они, во-первых, будут мятые, придется держать их под книгой, пока разгладятся, а во-вторых, печатные буквы гораздо мельче обыкновенного почерка, и на открытке, значит, уместится гораздо больше слов, и зачем же, спрашивается, вместо писем писать открытки. В итоге придется сочинять всякую муть, чтобы заполнить место, потому, мне кажется, открыток, как правило, никто не печатает. Конечно, можно послать и мятую открытку, ничего страшного, на почте нигде не указано, что нельзя посылать, все равно их там сплошь выравнивают этим прессом для погашения, или как называется эта штуковина, которая волнистые черты вышлепывает на марках. Когда я сказала, что теперь опять печатаю с приличной скоростью — соответственно, я имела в виду свой возраст: я печатаю с приличной скоростью для своего возраста и при таких своих руках. Чуть не сказала, что пальцы у меня, как когти. Но мои пальцы на когти не похожи, хоть они стали тоньше, чем были, и вздулись костяшки. Наверно, у меня руки как руки для женщины в моем возрасте. Рукава моего платья застегнуты на четыре белые пуговицы. В детстве я собирала марки, без особого восторга, но взрослые постановили, что надо собирать. Подчиненные отца получали письма со всего света, и он им велел самые интересные оставлять для меня, не то бы они их отнесли домой собственным детям. Я не любила собирать марки, тем более даже не думала их клеить в синие большие альбомы, которые мне покупал папа, но самые красивые я держала возле постели, в шкатулке красного дерева с вырезанным по крышке корабликом о старинных, о четырехугольных парусах, и я иногда их разглядывала. Больше всего мне нравились марки из стран, о каких я не слыхивала, из дальних углов Британской империи и, главное, из Французской Экваториальной Африки, экваториальной — какое невозможно заманчивое слово! Каждый день меня укладывали на мертвый час, пока я не стала неприлично большая, но вместо того чтобы спать, я, бывало, вынимала марки, разглядывала и воображала, как путешествую по этим местам, катаюсь на слонах, встречаю крокодилов и тому подобное. В общем, не очень помню, о чем именно я тогда грезила наяву, помню только, что подолгу грезила, а когда упоминаю про слонов и крокодилов, это исключительно догадка. В смысле — а почему бы нет? Время шло, и мое положение делалось все более невыносимым. Все чаще я грезила наяву, и не только в мертвый час, и все дольше я бывала далеко. Я была далеко в своих грезах наяву, мне наяву грезилось, что я далеко. Под «положением» я имею в виду свою повседневную жизнь, которая в те поры включала папу и маму. Мне было года четыре, лет пять, наверно, когда я окончательно убедилась, что повседневная жизнь с ними для меня невыносима. Они привели меня в мой первый день в детский сад, «они» в данном случае, это мама и няня, дюжая немка, которая обо мне заботилась, пока мама кружилась в вихре светской жизни. У нее, наверно, было имя, но если я его когда и знала, то теперь забыла. Слова «Гертруда Клеммер» витают возле самых ранних воспоминаний, но, возможно, это кто-то из книжки. Имя, не имя, неважно, для меня она была няня, и я ее видела гораздо чаще, чем маму с папой. Она от нас ушла, когда мне было шесть, ее сменила череда других, и ни одна не задерживалась надолго. Я, кстати, не уверена, что она была немка, может, голландка. В конце концов, я несколько раз путешествовала по Европе, когда стала взрослая, ездила в Мексику, Венесуэлу, один раз в Восточную Африку, ненадолго, но так я и не добралась до стран, которые были на моих любимых марках. Путешествовать взрослой, со всем грузом взрослости и грусти, оказалось совсем не так сладко, как я воображала, когда была маленькая.