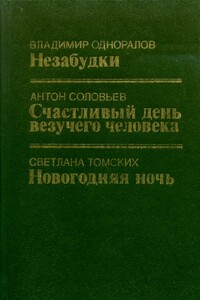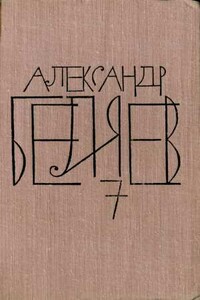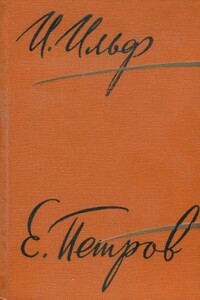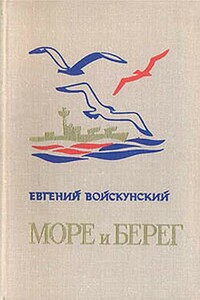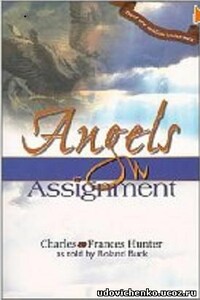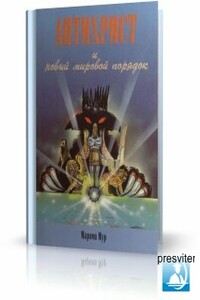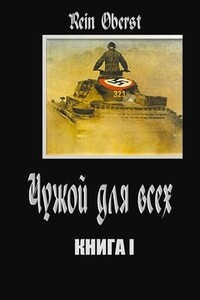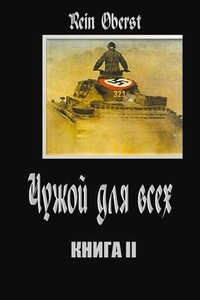…Ночью оборвали цветы. Из земли торчали толстые, измочаленные обрывки стеблей, залитые густым соком.
Иннокентий Павлович выругался простыми словами. Пора бы, кажется, и привыкнуть, не в первый раз, но он очень расстроился; в одних голубых замшевых шортах топтался возле клумбы, дергал себя за бороду и громко возмущался.
Он привез цветы из Мексики: в прошлом году ездил на конференцию. Старик мулат, у которого Иннокентий Павлович увидел их в саду, наверное, принял его за янки — заломил немыслимую цену, пришлось уйти. Но за день до отъезда, тайком от коллег, покупавших на остатки валюты дамские туфли и плащи, он снова появился у садовника и стал обладателем десяти невзрачных клубеньков, которым предстояло превратиться в необыкновенные цветы, похожие на мохнатых ласковых зверьков.
Поступок этот был странен и безнравствен. До сих пор Иннокентий Павлович обращал внимание на цветы не больше, чем, к примеру, на атмосферные осадки в районе Гренландии. Цветы существовали в его представлении только в виде букета, отороченного мохнатой долговязой травкой и обернутого в жесткий хрустящий целлофан. Он знал два сорта цветов: розы и гладиолусы; розы любила Оленька, гладиолусы — Тося. Еще Иннокентий Павлович помнил, что первым делом следует выкинуть травку и сорвать целлофан, иначе цветы будут выглядеть купленными в магазине похоронных принадлежностей.
Безнравственность поступка Билибина заключалась в том, что он нарушил таможенные запреты, которые распространялись и на эти безобидные клубеньки, запертые «молнией» в кармане нарядной кожаной куртки Иннокентия Павловича. Не дрогнув, ответил он «нет» на учтиво-строгий вопрос таможенника: «Семена растений, плоды… везете?» Правда, сердце у Иннокентия Павловича при этом сильно колотилось, и более того — миновав таможню, он не сразу сел в такси, сначала покружил по площади, незаметно оглядываясь и стараясь определить: не грозит ли ему погоня?
Ну ладно, пришла блажь в голову — купил, привез… Отдай какому-нибудь любителю-садоводу, тот до конца дней своих останется благодарен, еще, пожалуй, не постесняется, разбогатеет на экзотике, если расторопный. Так нет же. Иннокентий Павлович по приезде тотчас обложился специальной литературой, определил семейство, вид, подвид, способ размножения и удобрения, условия произрастания — словом, подошел к делу основательно. На все это, разумеется, нужно было время, а им Иннокентий Павлович крайне дорожил. Друзья Билибина, давно привыкшие к некоторой экстравагантности его поступков, на этот раз были удивлены, зная, как непримиримо он относился до сих пор к занятиям, отвлекающим от главного дела. Когда ему приводили в пример увлечения великих — скрипку Эйнштейна или розарий Курчатова, он отвечал резонно: «Сначала станьте великими…» Конечно, все тотчас вспомнили эти слова, глядя, как колдует Билибин над пакетиками с удобрением, листает «Справочник цветовода», конструирует сложное устройство для обогрева своей заморской диковины, невинно осведомлялись: «Уже имеешь право?» По мнению Иннокентия Павловича, такое право он заслужил давно, не об этом речь… Иное дело, что он действительно не мог объяснить даже самому себе странное свое увлечение.
По всем законам клубеньки должны были сгнить уже через неделю, но они дали ростки; цветы поднялись на удивление быстро.
Иннокентий порой разговаривал с ними: садился у клумбы на корточки, спрашивал:
— Ну что? Скучно? Кругом бегают, суетятся… Все в мире относительно. Я бы с удовольствием вот этак-то, на солнышке. И чтобы не думать ни о чем. Самое большое удовольствие — не думать.
Он протягивал к пушистым, длинным, нервным лепесткам руку, осторожно дотрагивался, и они тотчас откликались: потихоньку загибались, касаясь кожи теплым бархатом. Точно ребенок забирал в кулачок протянутый ему палец. Густо-багровые, они становились вдруг фиолетовыми, алыми, бледно-розовыми. По настроению. В сумерки все вокруг затоплял дурманный, горький запах, оставляющий на губах привкус весенних проклюнувшихся почек.
Прошлым летом цветы обрывали дважды, этим — трижды, но каждый раз по-божески, не подчистую, и они снова разрастались, то полыхая, то нежно розовея среди травы.
Вчера под вечер возле дома остановились два «ЗИЛа», пыльных и новых. На бортах надпись: «Уборочная». Четверо шоферов выпрыгнули из кабин, покрутились у ограды и вошли. Трое сразу направились к беседке поодаль, где Иннокентий обычно работал, если не ходил в институт, четвертый — к дому.
— Папаш! — прищелкнув пальцами, сказал он. — Стаканчик!
В беседке между тем уже хозяйничали. На столе ребята сооружали славный натюрморт: огурцы, помидоры, батоны — все крупное, яркое, кус колбасы — поленом и бутылка.
Стакан он вынес, только предупредил строго, поглаживая для солидности бороду:
— Чтоб не мусорить там, ясно?
В дом Иннокентий не вернулся: очень ему интересно стало, что там эти захватчики творят, благо и повод нашелся — сеттер Динни, увидев гостей, зашелся в счастливой сумасшедшей пляске. Иннокентий Павлович прогнал собаку и остался в беседке: шоферы не отпустили. Потеснились, налили на три пальца, пододвинули на газете огурец и кусок колбасы: