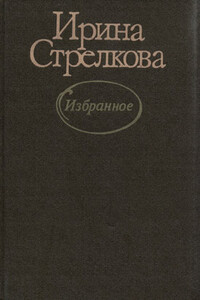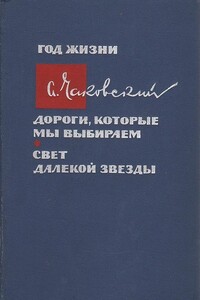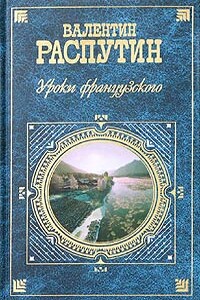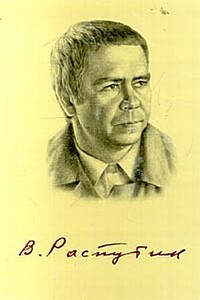Старуха была старая-престарая. Лицо у старухи уже не могло выражать ее чувств, этих глубинных течений, происходящих где-то внутри, и все больше и больше ветшало. Оно постоянно оставалось неподвижным, и эта неподвижность была тем более нелепой, что лицо продолжало жить.
Мать была лет на сорок моложе старухи, но и она жила уже в последних числах октября или в первых числах ноября, если год принимать за человеческую жизнь. Она редко смеялась и совсем не плакала — видно, кончилось у нее все, что необходимо для смеха и слез. А когда она улыбалась, то и улыбка получалась неотчетливой, словно ей для этого не хватало своих сил.
Девчонка еще была маленькая.
Когда она начинала играть, то звенела и скакала, как кукла-неваляшка. Но по утрам девчонка ходила в школу и училась читать и писать.
Они жили одни в маленьком домике на самом краю поселка, совсем без мужчин. Старик у старухи умер давным-давно, муж у матери погиб в тайге пять лет назад, а брат у девчонки не родился.
Они жили одни, являясь продолжением друг друга: мать была дочерью старухи, и девчонка была дочерью матери, внучкой старухи, словно на их генеалогическом древе отмерли все ветви и только на самой его вершине несмело бились зеленые листья, идущие прямо от ствола.
Когда-то в далекие времена старуха была шаманкой. С тех пор все шаманы повымерли, она осталась одна. Уже давным-давно никто не приходил к ней и не просил спасти человека, вызвать удачу перед промыслом или отвести болезнь от оленей.
Она не обижалась на людей: теперь настали другие времена, и то, за чем раньше шли к шаману, сейчас получают в больнице, в магазине или в колхозе.
Старуха и сама лет тридцать подряд ухаживала за оленями и била соболя, редко-редко вспоминая о своем шаманском прошлом. Оно ей ничего не давало. Она отрешилась от него, как отрешаются от неудачного замужества, неудачного, быть может, одним тем, что оно продолжалось недолго.
Старуха совсем не помнила в лицо своего старика, оно у него было тофаларским — это все, что от него осталось. Она помнила многое другое, но только не это. Точно так же старуха не помнила, что она испытывала, когда, одурев, прыгала на заре вокруг костра, выбрасывая вверх свои обессилевшие руки.
И вот теперь, накануне смерти, старуха забеспокоилась. Ее неподвижное лицо по-прежнему ничего не выражало, но за ним скрывались мучения, которые нельзя было унять, словно они заменили сердце и теперь сами перекачивают кровь.
Старуха не боялась смерти, она знала, что от смерти не спастись. Она выполнила свой человеческий долг: после нее на свете остаются дочь, ставшая матерью, и девчонка, которая тоже когда-нибудь станет матерью. Ее род продолжался и будет продолжаться — она в этой цепи была надежным звеном, к которому прикреплялись другие звенья.
Старуху мучило то, что она последняя шаманка, больше никого нет. Сотни и тысячи лет — у ее отцов и дедов, у их отцов и дедов — тайна и сила, которыми она владела, всегда считались великими. И вот теперь всему этому приходит конец. Человек, заканчивающий свой род, несчастен. Но человек, который похитил у своего народа его старинное достояние и унес его с собой в землю, никому ничего не сказав, — как назвать этого человека?
Старуха сидела на кровати, вытянув перед собой свои короткие ноги, и тихонько подвывала. Кровать стояла у окна, и в окно была видна земля ее отцов и дедов, их отцов и дедов, которая устояла после всех бед и несчастий и продолжает стоять. Старуха, подвывая, смотрела на эту землю, и ей чудились еще более страшные несчастья, после которых ничего не останется.
Она была просто старухой, старой-престарой, собирающейся умирать, и то, что ей чудилось, уже казалось ей неизбежным.
Пришла мать, и старуха умолкла. Ее неподвижное лицо теперь следило за матерью. Мать гремела на кухне посудой и не обращала внимания на старуху.
Старуха решилась.
— Эй! — позвала она мать. — Иди сюда.
Мать подошла и остановилась у кровати, не решаясь сесть рядом с умирающей старухой, словно боясь заразиться смертью.
— Я — шаманка, — с последним достоинством сказала старуха.
Мать знала об этом.
— Больше нету, — с последней тоской продолжала старуха. — Я одна. Нельзя, чтобы наш народ остался без шамана. Беда будет.
— Что ты городишь? — сурово спросила мать.
— Не надо шаманить. — Старуха испугалась, что мать уйдет, и заговорила торопливей: — Не надо, не надо. Я давно не шаманю. Надо остаться шаманом. Я умру, меня не будет. Надо, чтобы был шаман.
— Из ума ты выжила, — сердито сказала мать и ушла на кухню.
Старуха отвернулась к окну и снова завыла. Тоскливые, непрерывающиеся звуки шли из ее глубин, не касаясь лица.
Мать вышла из кухни, задумчиво посмотрела на старуху и ничего не сказала. Старуха выла с удовольствием, вкладывая в этот вой тоску и страх. У нее отнимали последнюю надежду, и она прощалась с ней. Она прощалась с собой перед тем, как навсегда потерять себя. Никто не мог отнять у нее это право — попрощаться с собой.
В это время прибежала девчонка.
— Перестань! — прикрикнула мать.
Старуха умолкла не сразу, постепенно заглушая вой, словно она вместе с ним уходила вдаль. Она оставила его у себя внутри, так что ни один звук не доносился наружу, и, повернув лицо, увидела девчонку.