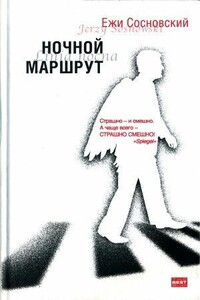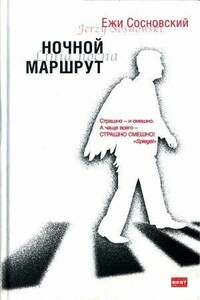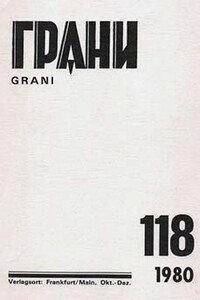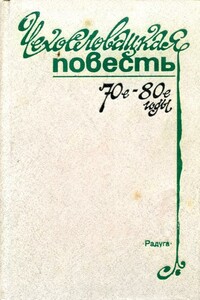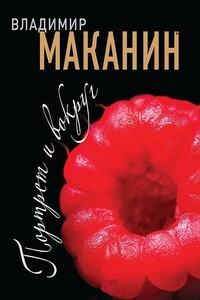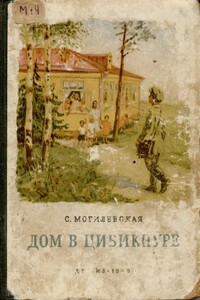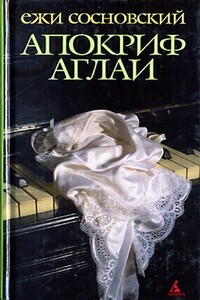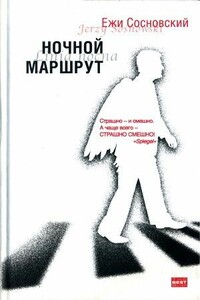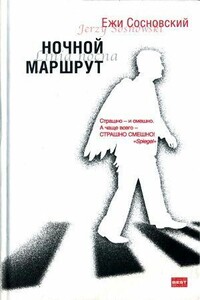Садясь в Колобжеге в поезд, я понял, что мне повезло: в спальный вагон, видимо, не продали всех билетов, и у меня был шанс провести это путешествие в одиночестве. После двухнедельного отпуска – в месте давних каникул – я должен был утром явиться на работу, свежий и отдохнувший, готовый к переговорам с клиентом настолько важным, что из-за него Шефиня даже уговаривала меня сократить пребывание на море и для верности прибыть в Варшаву уже в воскресенье. Я успокоил ее, сказав, что поеду в спальном вагоне, и, если встреча назначена в понедельник на десять, не стоит беспокоиться: по расписанию я должен быть на Центральном вокзале в семь, даже если поезд опоздает, мне оттуда до офиса десять минут на трамвае. У меня не было ни малейшего желания портить себе удовольствие: в Колобжеге мне всегда казалось, что время обращается вспять, что снова вся жизнь впереди и вот-вот появится шанс исправить накопившиеся за многие годы ошибки… Единственное, что вызывало у меня сейчас беспокойство, прямо-таки отвращение, – это необходимость всю ночь слушать чье-то похрапывание. И неизбежен неловкий момент, когда двое мужчин, снимая ботинки, раздеваясь ко сну в небольшом пространстве, невольно почувствуют запах друг друга. Я всегда считал, что женщины просто ненормальные, раз соглашаются иметь с нами дело: тела у нас безобразные, бесформенные, чрезмерно волосатые или покрытые какими-то родинками или веснушками, шершавые и немного липкие на ощупь. А еще брюки, всегда при снимании выворачивающиеся наизнанку, с белыми мешочками карманов, будто вырванных на дневной свет желёз, и до неприличия истертыми штанинами; а еще вечно пропотевшие рубашки… Поэтому, когда объявили об отправлении, начальник станции пронзительно свистнул и пол дернулся, а я все еще сидел один – я почувствовал себя так, будто мне удался рискованный блеф.
Вскоре, впрочем, я насторожился: мы еще останавливались в Устрони и в Кошалине, где могли бы подсесть отдыхающие из Мельно, – однако трое пассажиров, которые с шумом протиснулись мимо двери моего купе, пошли дальше. Около полуночи я мог спокойно лечь спать. Я открыл шкафчик с зеркалом, приподнял крышку столика, которая скрывала умывальник. Почистил зубы. В тусклом желтом свете пригляделся к своему лицу, которое смешно, почти до черноты загорело. Я хотел еще почитать, но меня охватила вдруг страшная усталость, нет, не усталость, скорее слабость. Лежа, я с минуту прислушивался к ритму своего сердца и не мог понять, это оно так учащенно бьется или вагон трясется на стрелках; стук в груди рифмовался с хриплым бормотанием вибрирующих стенок купе, и я уже собирался было встать, заказать у проводника чай, но очень уж не хотелось двигаться. Я погрузился в сон.
Проснулся я от духоты; со мной это иногда бывает на рассвете. Еще не до конца проснувшись, я встал и интуитивно почувствовал» что сейчас, должно быть, около четырех утра. Потянулся к боковому карману сумки за ингалятором, вдохнул два раза, соображая, как избавиться теперь от привкуса спирта, который, как всегда, остался от аэрозоля. И тут вспомнил, что в шкафчике с зеркалом видел минеральную воду. Открыв окно и набирая воздух в расслабленные ингаляцией легкие, я с минуту наблюдал за восходящим солнцем, которое в такт движению колыхалось низко над далекой рощей. Протянул руку к дверцам шкафчика – и оцепенел, пораженный. Правая рука была как будто не моя: она покрылась противными желтоватыми пятнами и дрожала, когда я ее осматривал. Раньше я воспринял бы это спокойнее: антиспазматические средства предыдущего поколения вызывали иногда тремор, внутримышечную дрожь, и мне с детства это знакомо, но мой беротек не должен оказывать побочных действий. Печеночные пятна, в конце концов, могли померещиться из-за плохого освещения, к тому же спросонья; я поднял руку, включил верхний свет и, подавляя растушую панику, постарался прийти в себя. В купе стало так светло, что я зажмурился, но свет помог мне вернуться к действительности. Я вспомнил, что утром перед отъездом опустил руки в соляной источник у реки – что ж, видимо, потом плохо их ополоснул, оттого и пятна, раньше я просто их не заметил. Минута паники, однако, отрезвила меня окончательно, и я понял, что теперь уже не усну. Под полом застучал какой-то мостик, потом железнодорожные стрелки. Ну, тогда выпьем воды, пробормотал я тихонько странно скрипучим голосом.
Я открыл шкафчик – и уставился в зеркало. На меня смотрело загорелое лицо, сплошь покрытое морщинами. Когда я натянул кожу на щеках, на месте морщин осталась белая сеточка, словно тонкий рисунок на дереве, источенном короедами. Страшно сушит это солнце, прохрипел я, потянувшись за бутылкой, сел и отпил глоток, стараясь отогнать возвращающийся страх. Это, наверное, отголосок какого-то дурного сна, успокаивал я себя. Только поэтому мне страшно, а на самом деле ничего страшного не происходит. Однако я готов был поклясться, что выглядел моложе, когда садился в поезд. Выглядел как всегда. А минуту назад тот, в зеркале, – это был кто-то другой, как будто мой старший брат.
Я опустил голову – и меня снова бросило в жар. Нет определенно происходило что-то странное. Пользуясь одиночеством, я спал так, как привык, в одних трусах – и сейчас ничто не мешало мне осматривать собственные икры с синими прожилками, внутреннюю сторону бедер, покрытую белыми волосиками. Черт побери, это ведь не мои ноги! Я отодвинул бутылку и начал осматривать свое тело со всех сторон – неужели я так похудел, проехав эту пару сотен километров? Еще раз взглянул на себя в зеркало: виски припорошила седина. Впрочем видел я сейчас хуже, чем минуту назад, как-то нечетко. Мне снова сделалось душно. Я начал искать ингалятор. Не мог вспомнить, куда его положил, – я всегда носил его в брюках, но… ах да, перед сном я сунул его в боковой карман сумки. Поезд начал сбавлять скорость, я посмотрел на часы; видел я плохо, кажется, было начало шестого. Я зашелся от мокрого кашля. На переезде дверцы шкафчика распахнулись, все еще кашляя, я невольно бросил туда взгляд: этот тип в зеркале сделался тем временем седым как лунь.