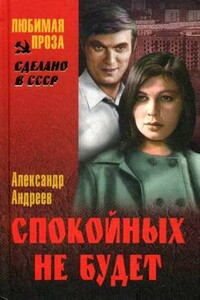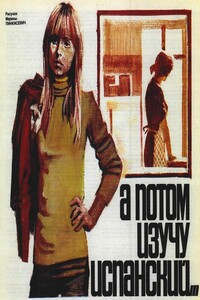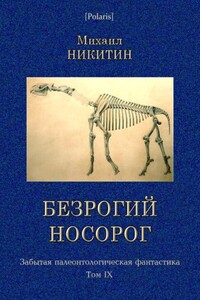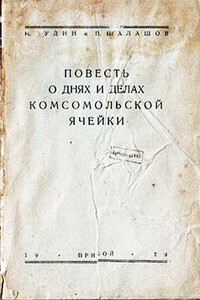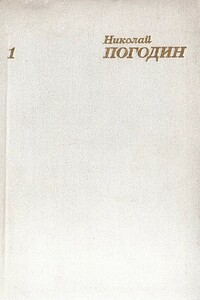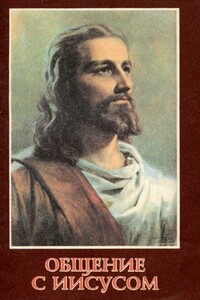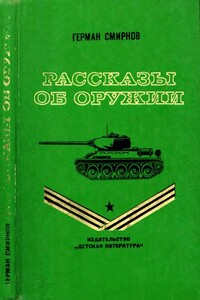АЛЁША. Над городом бушевала метель. Снег, сухой и сыпучий, несся по высветленным стылым рельсам меж вокзальных платформ и, взмывая ввысь, дымился над крышами вагонов. В белой и вязкой мгле — расплывчато, пятнами — двигались пассажиры. С чемоданами, с детьми. Носильщики толкали впереди себя тележки с багажом. Люди, как на всех вокзалах мира, торопились...
Вокзалы... Есть ли на земле еще такие места, где совершалось бы столько молчаливых человеческих драм, сколько их ежедневно, ежечасно совершается на вокзалах?! Вокзалы — немые свидетели пылких заверений воротиться, которые потом — исподволь, незаметно — зарастают травой забвения; клятв, в тот момент искренних, но со временем забытых, заглушенных расстояниями; утраченной веры в то, что было незыблемо; свидетели любви, горящей, как факел, а факел этот, отдаляясь, тускнеет, а затем и гаснет совсем; свидетели разлук навеки, когда сердце разрывается от тоски и боли, но после разлуки — пройдут дни, может быть, годы — боль притупляется, и лишь на сердце остаются рубцы, как после тяжкой болезни.
Вот и у меня сердце рвется от боли, и добрые люди со своими глубочайшими познаниями в науках бессильны помочь мне. Скорее бы трогался поезд — в путь, в пургу,— и, возможно, метель наложит на сердце свои студеные бинты и уймет боль...
От вокзала доносились звуки духового оркестра. Ветер то усиливал их, то обрубал, словно трубы заметало снегом и они как бы простуженно откашливались. Там проходил митинг молодых москвичей, отбывающих на ударные комсомольские стройки.
Митинг окончен. Вдоль платформы повалили шумные и крикливые толпы. Оркестр придвинулся ближе к поезду и загремел еще более задорно, взрывами.
Ко мне подлетела Анка. Она была в пыжиковой шапке с опущенными наушниками — как мальчик.
— Лучше всех говорил наш Петр.— На свежих, румяных щеках ее играли, смеялись ямки.— Содержательней. У меня морозец пробегал по спине, когда я его слушала. Он сказал: «Родина смотрит на нас, как на героев, которые призваны совершить подвиг. Готовы ли мы, друзья, на подвиги?!» И все, кто был там, закричали: «Готовы!» А я кричала громче всех.
Трифон Будорагин поморщился от недовольства:
— Тебе бы только покричать, курица. Я вот не кричал... Ну, поговорили, потешились, и катись за тыщу верст, на подвиги.— Он не выносил беспокойства, ломки жизни и наш отъезд из Москвы считал затеей зряшной и бессмысленной.— Ты хоть знаешь, чем пахнут подвиги-то?
— Знаю,— ответила Анка.— Энтузиазмом и романтикой. В тебе нет никакой романтики, а я полна ею до краев. И без подвигов, в жизни пусто, скучно, проживешь, и вспомнить будет нечего. Правда, Алеша?
— Правда,— сказал я.
Трифон, ссутулившись, заглянул Анке в лицо.
— На ком женился! — сказал он с неподдельным удивлением.— Не жена — символ какой-то. Полное отсутствие серьезности.
Елена Белая, подойдя, спросила:
— Женя знает, что мы уезжаем?
— Может быть,— ответил я.— Но не уверен.
— Как это на нее похоже.— Елена откинула со щеки мокрую от снега прядь, хмуро свела брови и отошла к подножке вагона, где стоял Петр Гордиенко.
Петра еще не оставляло возбуждение после только что произнесенной речи: когда он выступал, то как будто весь воспламенялся. И вообще он отдавал себя тому, за что брался, без остатка, с верой, самозабвенно... Встретившись со мной взглядом, он ободряюще кивнул: один он понимал, как мне было худо в эти минуты.
Против воли своей я смотрел в сторону вокзала. В груди как-то предательски нехорошо точила душу надежда: я все еще надеялся, что появится Женя, хотя точно знал, что она не появится.
Сквозь свист поземки и рев оркестра мне отчетливо послышался голос моего брата Семена.
— Здесь он, мама, идите сюда! — Семен протолкался ко мне, возбужденный и нетерпеливый; он, должно быть, «урвал минутку», чтобы прилететь на своем самосвале попрощаться со мной, и теперь торопился. — Привез родительницу, — сказал брат. — Сделал это из чувства собственного эгоизма: если бы она не проводила своего «младшенького», то слезами изошлась бы. Мне это ни к чему...
Первой подбежала племянница Надя. Я наклонился, она обхватила мою шею руками и ткнулась холодным носом в губы. Я нарочно долго стоял так, чтобы не глядеть на мать: опасался, что она станет меня жалеть и ее придется утешать на глазах у всех. Но когда я распрямился и взглянул на все, то сразу успокоился: она казалась улыбчивой, приветливой, точно пришла проводить меня на дачу; лишь по глазам, отступившим в глубину, под брови, под платок, по скорбному, болезненному их блеску можно было догадаться, что творилось в ее душе.
Три года назад, отправляя меня в армию, она, окинув взглядом юных новобранцев, произнесла с улыбкой:
— Ничего, сынок, вон сколько вас...— Она повторила эти слова и сейчас. А приметив в толпе Анку и Трифона, лишь добавила тихо: — Без хозяйки едешь, вот беда...
— Не надо, мама,— попросил я.— Папа как?
— Ничего, скрипит. Силком прогнал сюда. Велел наказ тебе дать.
— Какой же?
— Какой у него может быть наказ? Мужской. Чтобы ты никогда не числился на последнем счету. Так, говорит, и накажи ему. И еще про девчонок...
Я улыбнулся.