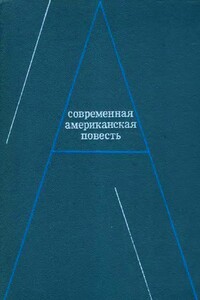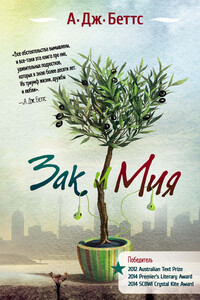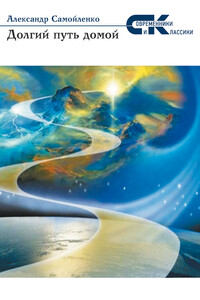Предисловие: Шесть американских повестей
Если расположить произведения, включенные в эту книгу, по времени написания, получится дистанция примерно в двадцать пять лет. А если их расположить по хронологии событий, о которых идет речь, дистанция окажется по крайней мере вдвое больше. И перед читателем пройдут многие ключевые эпизоды американской истории нашего века. Голод и гнев «красных 30-х». Перл-Харбор, с которого для Америки началась вторая мировая война. Еще одна война — далеко от американских берегов, в Корее, где «операция по поддержанию порядка» была оплачена не только тысячами погибших, но и моральными травмами тех, кто уцелел, даже тех молодых американцев, которых судьба уберегла от окопов вдоль 38-параллели.
Возникнет на этих страницах атмосфера подавленности, испуганного молчания, ставшая привычной для поколения 50-х годов. И сменившая ее к концу болезненной маккартистской эпохи атмосфера первых, еще робких бунтов против обезличивания и конформизма. И резко накалившаяся — уже когда у всех на устах был Вьетнам — атмосфера массовых движений протеста: антивоенного, антирасистского.
Да и Америка близкого будущего, каким оно сегодня видится человеку, на себе испытывающему жестокость и безумие сверх рационалистического, сверхтехвизированного распорядка жизни в многомиллионном городе-спруте, предстанет со страниц книги, объединившей шесть американских повестей.
Повесть в США принято называть «большой новеллой», реже — «коротким романом». Действительно, она где-то на перекрестке между новеллой и романом, этими основными формами прозы. Но ей чужда жанровая эклектика. Это не разбухший от подробностей рассказ и не конспект романа, это особая организация повествования, и порой она оказывается незаменимой.
У нее в Америке большие традиции: от Мелвилла с «Бенито Серено» и «Писцом Бартлби» до Фолкнера с «Медведем», до Хемингуэя, написавшего «Старика и море». Достаточно вспомнить все эти знаменитые повести, и, наверное, яснее станет природа жанра и то место, которое ему принадлежит в литературе, — может быть, не ведущее, зато собственное и ничем иным не восполняемое. Заметим, что лучшие повести почти всегда создавали те американские прозаики, которые были крупнейшими мастерами эпического повествования, как те же Мелвилл и Фолкнер. Это не случайно. У повести, собственно, такие же задачи, что и у романа, она только решает их по-своему, особыми средствами.
Конечно, она не содержит многоплановой и углубленной картины общественной жизни, но ведь по своей сути повесть, подобно роману, — это полотно движущейся истории, законченное и глубокое, пусть здесь и избран совсем иной ракурс изображения. Пространство романа, будь то «Моби Дик» или «Свет в августе», безмерно широко, а пространство повести всегда строго ограничено: какой-нибудь сравнительно скромный эпизод, выхваченный из хроники текущей действительности, или лаконично воссозданный отрезок биографии двух-трех персонажей. Однако этот суженный, чуть ли не камерный, внешний фон и, как правило, неширокие временные координаты позволяют настоящим мастерам добиваться в своих повестях высокой художественной концентрации. История здесь как бы застигнута врасплох, она еще не устоялась и не получила объяснений, но ее ход непременно чувствуется за оцениваемыми событиями частной жизни или на первый взгляд заурядными подробностями будничного обихода. В них открывается боль и мука больших социальных процессов, подспудно определяющих судьбы рядовых людей, о которых мы читаем в повестях американских прозаиков.
Для американской повести всегда было характерно необычайно активное взаимодействие факта и символики, переплетающихся здесь еще теснее, чем в эпических произведениях. Из этого синтеза возникают неповторимые жанровые черты. Прозаизм повседневности, обычно изображаемой в ее невзрачном конкретном облике, постоянно таит в себе высокий накал драматичности: главная сфера повести — будни, но в этих буднях происходят крутые повороты и перемены, затрагивающие жизнь всего общества, а значит, и каждого человека. Дорожа достоверностью непосредственного свидетельства о такого рода сдвигах бытия, лишь чувствуемых, но пока еще очень смутно понимаемых самими героями, повесть вместе с тем способна добиться емкости философского и нравственного содержания.
Нам рассказывают о молодом солдате, 7 декабря 1941 года выскочившем из казармы прямо под японские бомбы, или о злоключениях темнокожих Ромео и Джульетты из трущобного квартала, расшевеленного мощной социальной встряской на рубеже 60–70-х годов, и мы ощущаем точность каждого штриха, словно ведется репортаж прямо с той площадки, на которой все это происходит. И в то же время мы постоянно чувствуем в рассказе особую психологическую насыщенность, обобщенность, подчас доходящую до аллегории. Все дело в том, что слишком масштабны исторические потрясения, в которые оказываются втянуты в этот вчерашний школьник, призванный на действительную в самый канун Перл-Харбора, и эта юная негритянская пара, чья любовь расцветает не просто где-то рядом с противоречиями и надеждами сегодняшней черной Америки, но в самом их водовороте.