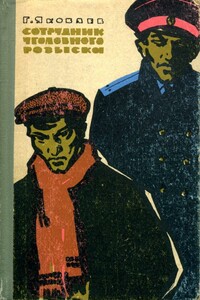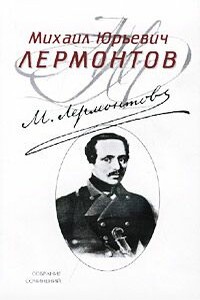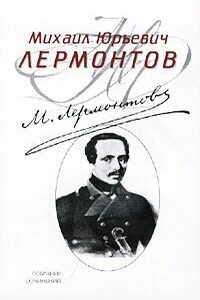В кабинет секретаря парткома колхоза Школьникова торопливо вошла сторожиха Ананьевна. Василий Иванович с большой теплотой относился к беспокойной старушке и иногда подшучивал над некоторыми ее странностями. Взглянув на возбужденное лицо Ананьевны, он улыбнулся:
— Что случилось? Картины ваши потерялись? Или кто-нибудь раскритиковал их?
Глуховатая Ананьевна имела слабость: в свободное время, собрав в кучу малышей, рисовать вместе с ними цветными карандашами незамысловатые картинки.
— И скажешь тоже, Вася! Не до картин мне… беда пришла! Муженек мой, Егор Егорович, у тебя в кабинете вчера пол ремонтировал и под полом золотые вещички разные нашел. Батюшки, чего там только нету! Как он порасскажет, так душа переворачивается…
— Ничего не понимаю, — сразу стал серьезным Школьников. — Какое золото? Где?.. Егор Егорович отнес его участковому милиции?
— В том-то и беда, не отнес старый сразу, а художнику клубному Чижову отдал. И что же теперь будет?! Дознаются власти, засудят. Колечки там были золотые, зубы, сережки! Сама я не видела, Егор Егорович рассказывал. Спаси, ради господа бога, Егорушку… Отдал Чижову. А ведь сам знаешь того пьянчужку, все спустит. А мой отвечай.
Василий Иванович решил немедленно поговорить с плотником. По пути к своему дому Ананьевна продолжала взволнованный, сбивчивый рассказ.
Престарелые супруги уже давно получали пособие по старости, но их, пожалуй, даже силой нельзя было заставить сидеть без дела. Ананьевна по собственной инициативе охраняла колхозное правление, а Егор Егорович выполнял мелкие плотницкие работы. Вот и вчера в отсутствие Школьникова в его кабинете заменял в полу прогнившие концы двух досок.
Егора Егоровича все знали как исключительно честного человека. «Почему он отдал такую находку Чижову? — удивился Школьников. — А, может быть, там не было ничего ценного? И все-таки передавать Митьке не стоило».
Чижов работал художником в колхозном клубе. Он довольно часто выпивал, скандалил с женой, и по этому поводу Василий Иванович не раз имел с ним крупные разговоры.
Обескураженный Егор Егорович ждал во дворе.
— Отрываю это я доску, — начал рассказывать он, подергивая остреньким кадыком, — а в земле, наполовину так зарыта, медная гильза из-под снаряда, от стодвадцатимиллиметровой пушки. Закупорена хорошо: куском кожи и завязана крепко. Потянул — тяжело. Еле вытянул. Открыл — и руки опустились: гильза полна колечек, сережек, часиков и другой петрушки. На которых вещичках вроде ржавчины. Колупнул пальцем — не отскакивает — не иначе, кровь засохшая. Обомлел я, Василь Иванович. Стою. И заходит в это время художник наш — Митька. Тоже посмотрел, стервец. И давай меня, старого дурня, крутить-вертеть. Дескать, попал ты, дед, крепко. Затаскает, мол, обвинит тебя милиция. Другой, быть-то, никто не нашел, а ты. Ты во время оккупации в станице находился. Связь могут пришить с фашистами. А гильзу не иначе, из них кто-то спрятал. Вот и попробуй доказать, оправдаться.
Егор Егорович тяжело вздохнул, посмотрел на Школьникова и продолжал:
— Говорю этому стервецу: делать-то что? А он говорит, давай свой клад, брошу его в речку, да и с концами. Ты молчок, и я молчок. На литру водки гони — и дело шито-крыто… Дал ему на пару «столичных»: шесть рублев — две трешницы. Гильзу он в свою куртку завернул… и до свидания. Всю ночь я не спал. Ничего от старухи не утаил. Утром к тебе ее погнал. Самому стыдно, понимаю, хреновина получилась.
— Да-а, — озадаченно протянул Школьников. — Не похоже на тебя, Егор Егорович. Стал овцой — и волк нашелся. Сразу требовалось заявить куда следует. Гильзу эту и правда фашист какой-то во время оккупации спрятал.
Школьников отправил жену плотника за участковым милиционером. Сам вместе с вспотевшим от волнения Егором Егоровичем направился домой к Чижову.
— Выручай, Василь Иванович, — бормотал старик. — Как хочешь, выручай. Ты партийный секретарь, тебе народ доверил, чтоб везде за справедливость выступать. А я ни в чем не повинный человек. Обморочили меня, обкрутили.
Их встретила жена Митьки, беленькая пухлая женщина. Она стыдилась своего выпирающего из-под красного передника живота и неловко прикрывала его руками.
— Здравствуй, Лена, — снял соломенную шляпу Василий Иванович. — Дмитрия нам бы надо повидать.
— Что-нибудь произошло? — удивилась женщина, глядя на тревожные лица мужчин.
— Да.
— Он в Краснодар уехал. Еще с вечера.
— Петрушка! — удивился Егор Егорович.
— Что стряслось, Василий Иванович?
— Гильзу с золотом твой муженек украл! Меня, старого недотепу, облапошил. На испуг взял, — вспылил старик.
— Какое золото, какую гильзу?! Быть не может! Зачем ему? — Слезинки задрожали на светлых длинных ресницах Лены.
В это время постучали.
— Войдите! — сквозь слезы крикнула женщина.
В открывшуюся дверь просунулась большущая рука, потом голова в милицейской фуражке. В комнату осторожно втиснулся участковый. В колхозе «Рассвет» все называли его любовно «дядя Боря».
Василий Иванович в нескольких словах объяснил капитану милиции сущность дела.
Лена сидела притихшая, беспомощная, думала о муже: «Мало я стыда из-за него натерпелась. С Веркой Куртюковой связался. Людям стыдно в глаза смотреть. А теперь еще… Позор!»