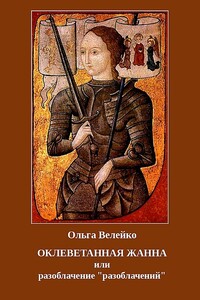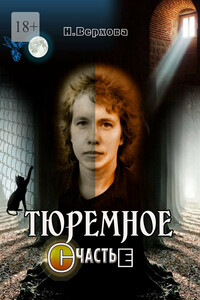Жизнь Березовки, мирной деревеньки раскинувшейся привольно среди полей бескрайней орловщины, резко раскололась после двадцать второго июня. Враз не стало вечерних гуляний молодежи, до первых петухов распевающей песни, гармонисты Яков и Василь в первые же дни ушли на фронт, резко поубавилось молодых мужиков в деревне.
В конце июля пришла в деревню первая скорбная весть — похоронка на Степана Абрамова. Степана призвали в сороковом, сразу же после свадьбы со Стешкой Ефимовой, крупной, ядреной, отчаянной девкой, которая и за себя постоять могла, и в зубы дать, если что.
Было дело — прилетело от неё липучему, хамоватому Стаське Шлепеню, прозванному ещё с малолетства Слепнем. Парнишка рос пакостным, уверенным в своей безнаказанности, мамашка его, ядовитая сплетница, цеплялась как репей к каждому, кто косо глянул хотя бы на её чадушко. Местные девчонки, зная гадостную натуру, обходили его стороной. Подросший, он мотался по соседним деревням, и не одна девица потом рыдала в подушку. Давненько, ещё в школе, положил он глаз на Глафиру Ежову — светловолосая, голубоглазая, с косой до пояса, она не обращала на него никакого внимания. У неё с первого класса получилась дружба с Родионом Крутовым, с годами переросшая в любовь. Едва им исполнилось по восемнадцать они поженились, и Слепню оставалось только облизываться на расцветшую после рождения Грини Глафиру. Попытался он говорить ей вслед грязные слова, за что нещадно был бит Родей, на которого злобу затаил лютую.
— Встретимся мы ещё с тобой на узенькой дорожке!
— Все равно я тебе морду опять подпорчу, — был ответ.
В последнее время, перед его арестом, моталась к нему в деревню какая-то развинченная городская девка — Милка, которая спала с ним на сеновале и совсем не обращала внимания на вопли Слепнихи.
Году в тридцать шестом, будучи уверенным в своей неотразимости-смазливости, попытался Слепень прилипнуть к Стешке… улучил минутку и зажал её на пятачке за клубом. Она не стала кричать и вырываться, а молчком двинула ему коленом по достоинству и, когда он согнулся, треснула кулаком по башке, убегать не стала, схватив валявшуюся сучковатую палку, тут же добавила и по спине. Потерявший свою зазнобу Степан, бросив гармонию, выскочив на пятачок, увидел согнувшегося и зажимающего пах Слепеня, а рядом Стешку с кривой суковатой палкой в руках:
— Я тебе не Милка, руки отобью враз! — Увидев Степу, подхватила его под руку.
— Не переживай, он свое получил! — и увела оглядывающегося и сжимающего кулаки Степушку.
Слепню повезло, что она увела Абрамова, и отдышавшись, он побрел в хату, восхищаясь про себя: — Ну и девка!
Вскоре Шлепеней — папашку и сына арестовали, по деревне поползли слухи, что они замешаны в деле с барскими драгоценностями. Убегая в восемнадцатом году, помещик Краузе, якобы, не успел прихватить свои ценности, зарыв их где-то в огромном, выращенном вручную, парке. История была темная, за двадцать почти лет обросшая фантастическими домыслами, но все эти годы находились «кладоискатели» что потихоньку лазили по развалинам, бывшего когда-то большим и сожженным в лихие годы, барского дома. То ли Слепени нашли клад, то ли ограбили кого в те годы, но попался старый Шлепень в районе с брошкой и кольцом немалой стоимости. В тот же вечер и приехали за смазливым Стасяном на воронке. И деревня вздохнула свободнее — старая Слепениха, первая и самая яростная сплетница деревни, как-то съежилась, притихла и через три месяца преставилась.
— Стеша, получив похоронку, как закаменела. Она не выла, не кричала, как мать Степана, она просто молчала — резко похудевшая, с запавшими глазами, от неё осталась только тень той задорной заводилы и запевалы…
Становилось все тревожнее, через деревню день и ночь тащились усталые измученные гражданские, убегавшие от немцев, бабы помогали как могли, но беженцев меньше не становилось. Вдалеке еле слышно стало погромыхивать.
— Гроза, знать, идет где-та! — вымолвил дед Ефим, зябко кутающийся в куфайку и мерзнущий по причине многих лет.
— Нет, дед, это фронт громыхаеть, — ответил Никодим Крутов, — фриц-то прёть, уже под Киевом воюють наши-те. Ох, горе горькое, вот и повоевали малой кровью.
— Его Родион, ушедший на фронт двадцать четвертого июня, был где-то там, и кто знает, жив ли его единственный сын. Никодим каждый день ездил на стареньком дребезжащем лисапете в дальний, километров за десять, в лес. Всякий день привозил много грибов.
— Суши, Глаш, — говорил он снохе, — зима-то долгая и суровая будет, вон, приметы-те все на это указують. Вот и не верь посля такого, что грибов великий урожай — к войне.
Частенько брал с собой старшего внука Гриню, как две капли воды похожего на него: у того и другого рыжеватые волосы, серо-зеленые глаза, шустрые, худенькие, как два воробья, легкие на ногу, успевавшие везде. Только вот учился Гриня плохо, вертелся, не слушал единственную их учительницу Марью Ефимовну, за что попадало от батьки.
Второй внук, Василь, был полной противоположностью Грини — (удавшийся в Родиона, а тот был на полторы головы выше папани — пошел в материнскую родню), взявший от мамки своей, Глафиры, белые волосы и голубые глаза, он был настоящим васильком, смотрящим на него всегда приходили на ум васильки в ромашках.