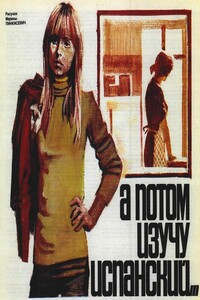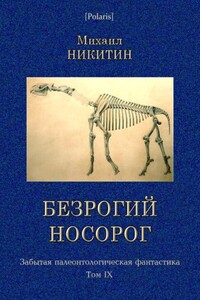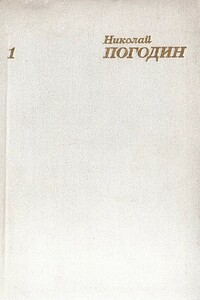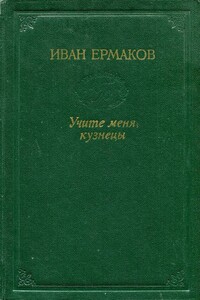Немало деньков у красного лета, да только один какой- нибудь душа сберегает. Метели повьют, морозы ударят, а вспомнишь его, этот денек, и потеплеет в твоей груди. Так и человека… Многих я на своем веку перевидал, не поле перейдено — жизнь прожита, а Ивана Николаевича не с кем мне поравнять. Гляжу вот на его портрет и памятью сличаю. А она, хоть и старая, память-то моя, да не вовсе проржавела. Есть там такие уголочки, где прожитое ровно зеркальцем отражается. Как про такое не рассказать.
На любви да на славе ходил у солдатской братии фельдфебель Коршунов. За веру да царя живот сложить- это еще и подумать и погодить можно, а за него — рисковали. Прост был с солдатом, ровен, человека в нем искал. Не зря, когда начальства близко не толклось, не фельдфебелем его, а Иван Николаевичем рота звала. Мы за ним, как за отцом родным, жили. Одеты, обуты по ноге, по мерочке, убоинка в котле не переводилась, в баньку — и мыло тебе, и веничек. Одним словом, правильно нас в полку «румяной» ротой звали.
Лих да брав, весел да удал по земле ходил наш фельдфебель. Всегда до отсверка выбритый, усы в два тонких жальца сведены, глаза — серые, крутой, громкоголосый- пружина человек! С ним и служба веселей шла. А веселей — всегда легче! Посильна, говорят, беда со смехами. И не зря говорят. Кому служить довелось, тот помнит, какие они первые-то месяцы… Затоскует человек. Мамонька с тятенькой на ум падут, зазнобушка, пес Валетко тут же как живой предстанет. И в ночное съездишь, и на деревенском кругу побываешь, и черт-те куда не заплетешься. Осоловеешь даже. Сам в строю, а мечта — в раю… Иван Николаевич мигом таких-то в солдатское естество приводил. Сейчас побасеночку! Тут тебе и как служивый человек сатану к присяге приводил, и как роту чертей ученьем замучил, и как в табакерку смерть свою засадил. За вечер так бывало ухохочешься, под вздохи колет. Осоловелого тоже проберет: что годовалый стригун ржет. За это самое нас, кроме «румяной», еще и «веселой» ротой прозывали.
Солдаты из других рот в шутку не в шутку, а выскажутся:
— Дайте нам своего фельдфебеля хоть на недельку. Вша с тоски заела.
Пустяки вроде солдатская байка, а Иван Николаевич со смыслом ею солдата пользовал, с загадкой. И сам он был человек с загадкой…
Как-то перед отправкой в Маньчжурию купил Иван Николаевич где-то козла. Здоровенный козел, пегий, в три масти — Захаркой звался. Копытца, рожки ему вызолотил, бородку подровнял, на шею поясок шелковый с лентами повязал. Изукрасил, одним словом, как циркача какого, и стоит, любуется.
Мы, понятное дело, интересуемся: ежели в котел, то к чему золотые рога, ежели на позицию… Тут уж вовсе в тупик зайдем.
— В том-то и дело, что на позицию, — поясняет нам Иван Николаевич, — Знайте, — говорит, — что козел в бою удачу приносит. Во французской армии в каждом полку, почитай, окромя командира, попа-капеллана, знамени, денежного ящика, еще и козел имеется. Издавна у них так-то заведено.
— Значит, и мы на французский манер?
— На французский не на французский, а все солдату веселей, ежели какое дыханье рядом, пусть бы и козлячье даже…
Видал, с какой он думкой!
А так оно и выходило. Солдат кругом казенный Окромя винтовки, шинели да котелка, родни нет. Тут любой животинке рад будешь…
Стал наш Захарушко ротным любимцем. Ласкать его да играть с ним в драку любителей насбирывалось. И кусочек ему несут, и капустную кочерыжку, и сахарком балуют, а другая добычливая душа рюмочку принять сговаривает:
— Откушай, Захарыч! Один раз живем!..
Когда тронулись эшелоном, вовсе Захарко дорогим подарочком оказался. Всех-то в вагоне он обойдет, у каждого мяконькими губами в ладонях пошарится, хлеба, соли отведает да еще и сладенького выклянчит. Целый день цыганит. Заиграют на балалайке — Захарка тут как тут: уставится на музыканта и вертит башкой. То так, то эдак ее склонит, вроде как лады запоминает. А как песню заведем: «Шел солдатик из похода…», и подкозло- голосит. Уморушка. Уж и петь перестанут, а он все ме- мекает. Растревожился, значит.
Потешались с ним так-то до поры, а пришла она — довелось нашему Захарке другим делом заняться, хоть бы и не козлу впору.
Был в нашем взводе Петров Семен, рядовой. Ничего особого в нем не замечалось, кроме разве того, что грамоте хорошо он знал. Днями, бывало, просиживал — книжки читал да письма нам на родину строчил. Однако себе на уме паренек. Мы едем, песни поем да по уголкам «короля за бородку» тянем, в «двадцать одно» то есть дуемся, а он все заботный какой-то. Под вечер темно станет — про японца разговор зайдет:
— У них, братцы, вся держава морская. Он, японец, нырять, сказывают, ловок, а на земле, на сухопутьи то ись, его раскачка берет. Ну, стало быть, мушку-то у винтовки ему и не словить… Палит куда попадя…
Петров возьмет да и осадит:
— Испробуете, как жареный петух клюется…
Мы с малого ума на него:
— Гляди-ка чем застращал! Да нешто он, желтопупик, может против русского устоять! Мы аржанушники небось, а он — рисоед. С птичьих-то харчей немного с русским навоюешь.
А кто еще и такое выскажет:
— Они, япошки, поголовно все больные… Хворость такая по ним ходит — сонная чума зовется. Ходит он, работает, вроде как и здоровый, а как двенадцать часов дня пробьет — кого где застигло, тот там и засыпает. Вся Япония спит. А храпят — острова, говорят, колыбаются. Тут ты, значит, и подбирайся к нему, к куриной слепоте, наповид хоря, и свертывай, значит, башки по очереди…