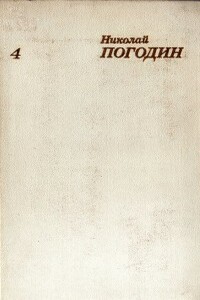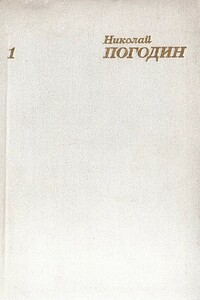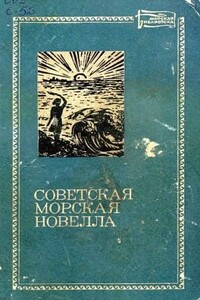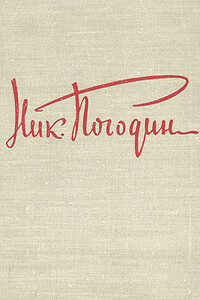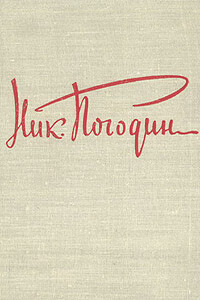Картина первая
Русско-германский фронт мировой войны. Укрепленный окоп. Середина октября. Вечер. В окопе находятся солдаты: Иван Шадрин, Стамескин, Евтушенко, первый солдат, второй солдат.
Стамескин. Тишина… Слышите, защитники, я вам говорю — тишина.
Евтушенко. Стамескин, шо ты все гавкаешь? Сказывся бы ты… Гавкает, гавкает без толку.
Стамескин. Что вы мне ни говорите, а немец — дурак. Шлепни они сейчас по нашему флангу — и все рассыплется, как труха.
Первый солдат. Молись богу, что жив.
Стамескин. Я от бога отделился. Бог мужику не пара. Мы с ним теперь не разговариваем.
Шадрин. Ты, Стамескин, мужиком не прикидывайся. Какой ты, к черту, мужик? Мужик — который на земле живет, а ты — город, мастеровщина.
Стамескин. Это верно, Ваня, титулы у нас с тобой разные, только вши одинаковые.
Шадрин. Умная порода — мастеровые.
Замолчали. Неподвижно сидит контуженный, кутается больной. Далеко, не переставая, звучит канонада.
Евтушенко. Хлопцы, не ругайтесь, це ж месяц молодой… побачьте. Братцы, а братцы, до чего ж я вышни хочу… нашей вышни, шо у нас дома в саду… Ой, бог ты мой, за шо ж оця мука чоловику? Хочь бы горсточку той вышни, тоди б вмер.
Шадрин. Бесполезно по сердцу скребешь, Евтушенко.
Первый солдат. Взирая на мучения Христа-спасителя, я незлобен есмь.
Стамескин. Твой спаситель помучился и воскрес, а я не воскресну. Солдаты не воскресают. Солдаты гниют.
Входит Лопухов.
Лопухов. Почему это вы такие унылые? С утра не воевали — соскучились?
Шадрин. Кому весело, пускай танцует.
Лопухов. Подметки жалко, а у господина Керенского[2] вся обувь вышла. Зима начинается, если не ошибаюсь. Стрелки, наш полк с позиций завтра снимают для особых операций в тылу. Понятно? Молчок! А про тебя, Шадрин, связисты говорили, что отпуск получишь. Ты, Ваня, у капитана в холуях не служил?
Шадрин. Кто в холуях? Я в холуях? Ты, Лопухов, меня все время на особом виду держишь. За что? Чем я виноват, что командир меня по сестре знает? Сестра моя у них в горничных служит.
Лопухов. То-то я дивлюсь: почему бы Шадрину отпуск?
Шадрин. Какой ты человек, Лопухов… Я третий год без выходу в окопах… Мои товарищи давно… царство небесное… в отпуск сходили, а я все еще тут.
Лопухов. Полк для особых операций на Питер посылают. Интересно знать, чью команду будет слушать Иван Шадрин.
Шадрин. Ничью.
Лопухов. Не выйдет, Ваня.
Шадрин. Ко двору!.. Если меня опять не пустят ко двору, я не знаю, чего наделаю.
Лопухов. Люди говорят, будто я тоже мужик, — или это брехня?
Евтушенко(Лопухову). Отчепись от хлопца. Шадрин — гарный чоловик. Слухай, Лопухов, газетки нема?
Лопухов. Есть.
Стамескин. «Солдатская правда»?[3]
Лопухов. Других не ношу. Тут есть слова Ленина, мы со связистами читали статью, да вот — смерклось.
Шадрин. Давай, посвечу. У меня фонарик живет.
Стамескин. Свети.
Лопухов. Вот. (Читает.) «Нельзя вести массы на грабительскую войну в силу тайных договоров и надеяться на энтузиазм…».
Шадрин. Это как же понимать? Нельзя солдат морить?
Стамескин. Нельзя.
Шадрин. Вот это окопы чувствуют.
Лопухов(читает). «Передовой класс России, революционный пролетариат, все яснее осознает преступность войны…».
Второй солдат (со стороны). Ребята… голос полкового.
Шадрин. Лопухов, дай мне газетку… Ты в свой взвод пойдешь, а мы дочитаем.
Лопухов. Ладно, но береги.
Шадрин спрятал газету на груди под шинелью. Все заняли свои места. Входит капитан.
Капитан. Сидите, ребята. Последнюю ночь сидим с вами в окопах. С рассветом выходим в глубокий тыл. Я, как вы знаете, не люблю от солдат скрывать ход наших военных дел. «Язык» нам перенес, что надо ждать атаки. Атаки я сегодня не жду: у противника на нашем участке очень мало живой силы, но приготовиться надо. Как вы думаете?
Лопухов и другие. Так точно, господин капитан.
Капитан. Это вы, Лопухов? Я вас очень часто встречаю в полку, гражданин Лопухов.
Лопухов. Я в своей роте, господин капитан.
Капитан. Да, но не в своем взводе.