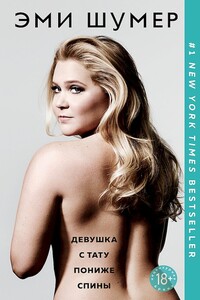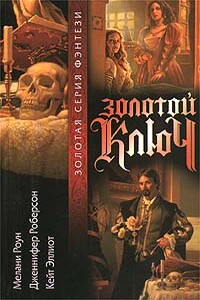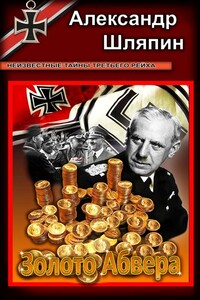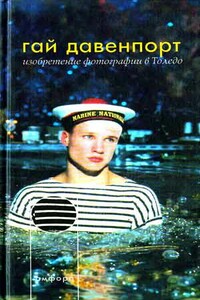ГЕОГРАФИЯ ВООБРАЖЕНИЯ
© ПЕРЕВОД Ф. ГУРЕВИЧ
Разница между Парфеноном и Всемирным торговым центром, между бокалом французского вина и кружкой немецкого пива, между Бахом и Джоном Филиппом Сузой, Софоклом и Шекспиром, велосипедом и лошадью может, конечно, объясняться историческим моментом, неизбежностью и предопределенностью, но прежде всего это разница воображения.
Изначально человек был охотником и художником — об этом говорят самые ранние его следы. Однако он всегда был обязан мечтать, распознавать, предполагать и догадываться: все это — навыки воображения. Сам язык есть непрерывное образное действо. Рациональная речь, если она выходит за границы привычной для нас греческой логики, представляется ушам продуктом самого необузданного воображения. Догоны — племя из Западной Африки — расскажут вам о белом лисе по имени Ого, который время от времени сплетает себе шапочку из вылущенных стручков гороха, напяливает ее на свою бесстыжую голову и так пускается в пляс в зарослях бамии, чтобы посильнее задеть и вывести из себя Господа Всемогущего, — и с этим ничего нельзя поделать, только терпеть с верой и смирением.
Это не фольклор и не старомодный обычай, а столь же серьезное для догонов дело, как бензоколонки для американцев. Воображение — иными словами, то, как мы формируем и используем мир, даже больше, то, как мы этот мир видим, — обладает географическими границами, подобно островам, материкам и странам. И границы эти можно пересечь. Догонский лис со своими дерзкими танцами, как выясняется, поселился и среди нас, только в ином обличье и служит воображению иного сорта. Мы зовем его Братец Кролик.
Мы, американцы, особенно чувствительны к границам воображения. Наше пришествие было вторым; явившиеся первыми до сих пор вынуждены носить чужое имя, рожденное в воображении неких людей Ренессанса, почти сто лет не желавших расстаться с мыслью, что эти два обширных континента являются Индией, — само понятие было тогда расплывчатым настолько, что включало в себя не только Индию, но и Китай, и даже Турцию, в честь которой эти люди назвали самую вкусную нашу птицу.[1]
Воображение имеет свою историю, пусть ненаписанную, и свою географию, пусть различимую лишь смутно. История и география неотделимы друг от друга. Они обитают на разных полках библиотек и на разных кафедрах университетов, но не проживут и минуты без взаимных консультаций. Подобно пространству и времени, история и география — супруги.
Говоря, что все непрерывно меняется, Гераклит не призывал нас пользоваться моментом — с его безмятежным умом подобная мысль просто не вяжется, — скорее он предлагал обращать внимание на поступь событий. Ибо все вокруг обладает собственным ритмом: собачья дрема, прецессия, лидийские танцы, величественно медлительный бой барабанов Додоны, стремительные бегуны Олимпии.
Воображение, как и все, что во времени, метафорично. А еще оно укоренено в земле: география. На латыни святость места обозначается словом cultus: жилище бога, где можно свершать обряды. От cultus произошло наше слово «культура», но не в том высокопарном смысле, который приобрело сейчас, а во вполне обыденном. Для людей античности святостью обладали родные и повседневные вещи: в первую очередь, домашний очаг, затем кровать, стена вокруг двора. Храм был слишком свят, чтобы в него входить. Омыть гостю ноги — значит свершить столь же священное действо, как пировать с богами.
Придя в новый мир, европейцы ничему в дороге не научились — они двигались будто по темному тоннелю. Плимут, Лиссабон, Амстердам, затем три месяца через качкую Атлантику, и вот вам скалы и сосны, песок и пальмы Катая, Индий, невесть какие земли. Работавший в Париже немецкий картограф решил по одному ему известной причине перевести на латынь имя Америго Веспуччи и назвал это все Америкой. География имеет дело с картами, а карты обязаны сообщать имена мест, на них обозначенных.
Стало быть, мы, колонисты нового мира, принесли с собой воображение других стран, чтобы привить его чужой географии. Мы прожили здесь едва ли четверть того времени, которое фараоны правили Египтом. Многое мы перенесли через Атлантику и Тихий океан, многое оставили позади — выбор важный, с ним предстоит жить вечно.
Воображение подобно пьянице, который потерял свои часы и сможет их найти, только если опять напьется. Мы сроднились с ним, как с речью и обычаями, а чтобы проследить его пути, наши глаза должны научиться смотреть по-новому. В 1840 году когда бестселлером был «Следопыт» Купера, а фотографии только-только находили практическое применение, в американском журнале появилось эссе под названием «Философия обстановки».
Диккенс насмехался над тем, как американцы читают лекции о философии всего: в понедельник о философии преступности, в среду о философии государственного управления и в четверг о философии души — все это Мартин Чезлвит узнал от миссис Брик. Но англичане, как мы знаем из сатирических романов Томаса Лава Пикока, тоже были помешаны на лекциях. Стараниями большой французской энциклопедии, ее подражателей и прессы читатели рвались послушать что-нибудь о чем угодно. Народ валом валил на лекции Луи Агассиса по зоологии и геологии (в 1840 году этот ученый объяснял ледниковый период и природу тех ледников, которые только что открыл), люди торопились услышать Эмерсона, трансценденталистов, утопистов, доморощенных ученых, вроде Джона Клива Симмза из Цинциннати, утверждавшего, что земной шар открыт на полюсах, а на внутренней стороне его полости имеется другой мир с другим человечеством, и даже Торо, читавшего свои лекции в церковных подвалах.