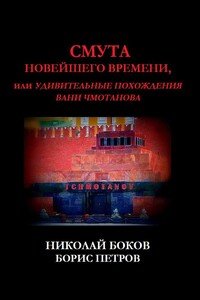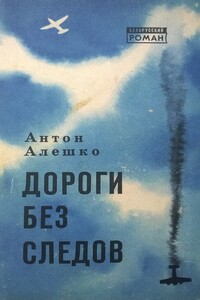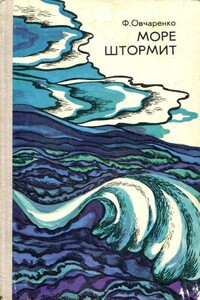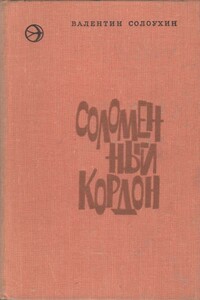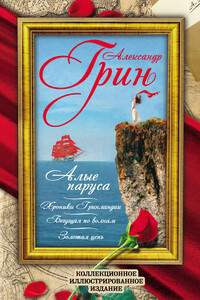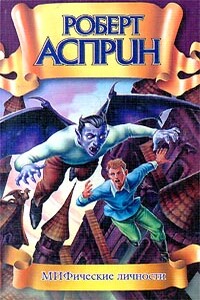Николай Боков
Тридцать… а теперь и сорок лет спустя
Заниматься самиздатом в Париже спокойнее и удобнее, чем в Москве 1970-х. Но зато и резонанс тогда был другой. Точнее, тогда-то и бывал резонанс, о котором мечтает западный писатель, когда говорит об «удовольствии писать и о счастье быть прочитанным». Применительно к Самиздату, эту формулу можно дополнить «радостью и риском быть перепечатанным читателями».
На Западе — как, вероятно, ныне и в России — читают немногочисленные профессионалы и пересказывают остальным (в этом, в сущности, основная роль критики). Так о книге узнает «широкий» читатель. Восприятие читателя-профессионала особенное. Оно бывает насыщенным или притупленным до такой степени, что только нечто острое, жуткое и из ряда вон достигает утомленного интеллекта. О таком и пишется. Так читатель и воспитывается и деформируется. Об этом я не буду теперь говорить подробно.
Писание в годы Самиздата было другим. Мало сказать — удовольствие. Восторг, экстаз, уверенность, что одной книгой можно перевернуть всё — и даже советский режим.
Это был еще поиск. Ибо предполагалось — по юношеской интуиции разрушения, — что советский режим имеет свою — неужто ахиллесову? — пяту. Такой, утверждают газеты, современный, такой атомный режим — имел, однако, слабое место. Родившись, он утвердился насилием и пророс в головы с помощью мифа о сверх одаренном мальчике из простой семьи Ульяновых, который после долгих лет учебы и борьбы основал великое государство и покоится ныне в гробнице, позаимствованной у царя Мавзола.
Сохранение остатков основателя, останков, мощей продолжило, несомненно, православный — и вообще многих религий — обычай. В двадцатые годы он казался естественным, — коммунисты узурпировали и сферу сакрального. Водрузить мощи «своего», похоронить его с таким расчетом, чтобы в могилу могли спускаться люди для почитания, вдохновения и «осознания». Для наполнения египетской формулы «вечно живой» хотя бы частично реальным содержанием.
Вот где слабое место! Его уже обнаружили и эксплуатировали «политические» анекдоты. Вот где — и не пята, а лоб: Голиафа. Приближалась редкая дата, неповторимая, какую нельзя пропустить: столетие со дня рождения вождя, по-немецки — фюрера (впрочем, в отличие от немцев, у нас они сменялись чредой бесконечной).
Наша подрывная работа заняла три недели. Ныне мне жаль, что мы так спешили: текст грешит конспективностью, слишком большой скоростью письма (и чтения). Но идея сложилась незадолго до юбилея, во время посещения мавзолея со знакомым ребенком, приехавшим из провинции и желавшим непременно увидеть диковинку; то была Наденька, дочка Сони Губайдулиной и Марка Ляндо [умершая скоропостижно в 2004 году в Москве].
Борис Петров (1936-2003)
Подпольный сатирик на редакционной «летучке». Архив Натальи Петровой
Мы торопились с нашим «подарком Самиздата». Тон задавала сама действительность: продавалась колбаса, дававшая цифру 100 из жира, когда ее резали кружочками, появились сервизы и носки с видами ленинских мест. Официальная пресса осуждала подобное снижение священной темы. А народная душа похохатывала: анекдот оповещал о новой кровати для молодоженов, трехместной: «Ленин всегда с нами».
Нужно было написать, сделать несколько копий и микрофильмов для запуска в невидимую и не исчисленную сеть подпольного распространения. И это наряду с текущей работой и бедствиями: экзамены в аспирантуру философского факультета, болезнь матери. И еще… и еще… Двойная жизнь, ничего не поделаешь! (Никто не думал, что это бывает вредно для души; было — забавно.)
Задыхаясь от хохота, мы с Борисом Петровым развивали сюжет устно, а затем торопились записать. Впрочем, Боря вечно опаздывал: в «многотиражной» (а какие же были другие?) газете «Знамя строителя» он разоблачал неполадки в строительстве, им конца не было, и его все время куда-нибудь посылали. И теперь еще эхо того хохота я слышу (и мне делается немного не по себе: «желтый смех», — говорят французы), перечитывая книжку: ее на днях прислал Юрий Лехтгольц (Лехт) из Лос-Анджелеса, мой киевский подельник. У него, распространителя журнала «Ковчег» в начале 80-х, сохранилось несколько экземпляров парижского анонимного издания.
На память приходят и другие драгоценные имена тех сказочных лет Самиздата. Вячеслав Великанов, Сергей Генкин, историк Валерий Щербаков, Оля Ступакова, Шершнев Юрий и Таня, Вика 11 Аксельрод, Поликарпов… не забыть бы кого… Петя Старчик, два Василия Ивановича — Лахов и Баев. Кира Дюльдина. Леонтьевы: Анатолий (в «Гранях» и в альманахе «N» он подписывал стихи: Мерцалов), Оксана и Дима Леонтьев, подпольный писатель.
Владимир Галкин, он же Кирилл Сарнов в первом номере «Ковчега». Инженер Никифоров, Будюкин Витя. А веселый Батшев, теоретик СМОГа, и Алейников Володя? Мой собственный сын Максим, перенесший свой первый обыск в трехмесячном возрасте? Незадолго до эмиграции я встретил Андрея Твердохлебова и Сахарова.
Господь меня не обидел: стольких людей послал мне навстречу, которых полюбил.
По-видимому, и сегодня в «Чмотанове» многое смешно, хотя ничто так не стареет, как юмор и сатира (и это особая совсем неисследованная тема: старение произведения). Мне даже несколько не по себе от тогдашней дерзости, беззаветной, юношеской, еще не укрощенной страшными ударами судьбы и Провидения. Кое-что в тексте сделалось непонятным постсоветскому российскому читателю и тем более заграничному, тем более, когда бледнеют и исчезают штампы коммунистической мифологии.