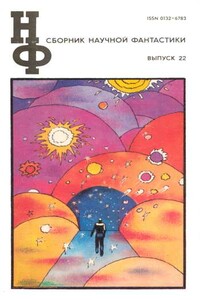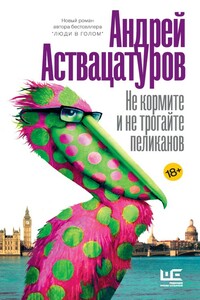Мыслям, которые приходят в голову, когда сидишь взаперти, доверять нельзя. Так говорила Люся. Но других у меня никогда не было. И если мне приходилось выходить из дому, то в голове сразу делалось пусто.
Мы с Люсей поженились, когда нам обоим было по двадцать пять. Накануне свадьбы она сказала, что сделает из меня человека. У Люси был большой бюст, красивая талия, и я полностью ей доверился. Через четыре года мы развелись. Люся объявила, что я совершенно безнадежен. Видимо, я сделал ошибку, когда однажды честно признался ей, что в детстве мечтал работать в булочной продавцом. После развода мы какое-то время встречались и один раз даже вместе ездили в Крым отдыхать. Потом Люся вышла замуж за американца и уехала в США. А я остался здесь. Остался в своей однокомнатной квартире на площади Мужества. Мои друзья ласково называют ее «живопырней».
— Окна на восток! Великолепный вид! С утра солнце! Свежий воздух! Зеленый район! — выталкивала слова конторская служащая, круглая тетка с фиолетовыми волосами и массивной брошью на внушительной груди. Мама сидела на стуле, приставленном боком к желтому тощему столу, и держала меня, трехлетнего, за руку. Я не понимал, почему фиолетовая тетка хочет, чтоб мы жили в зеленом районе. Мне мечталось жить в красном. Наверное, уже тогда во мне начали просыпаться левые идеалы. В зеленом, это я уж знал наверняка, будет неинтересно. И еще хотелось в туалет по-маленькому. В детстве это желание охватывает тебя почему-то внезапно, как петербургского поэта — вдохновение.
Я выкрутил руку из маминой ладони:
— Мам, я писать хочу!
— У вас тут есть туалет? — перебила мама фиолетовую тетку. — Извините нас.
Та улыбнулась.
— Да завсегда пожалуйста! Я ж понимаю… У меня ж дома такой же. Раньше вот тоже — все писать, просился, я уставала, а теперь вырос — я думала, ну все, слава богу, так он того хуже — велосипед просит. А зарплаты у нас, сами знаете… какой там велосипед… Так что радуйтесь пока, Вера Викторовна. — Мама поднялась.
— Пойдете по коридору, налево до конца, — фиолетовая вытянула вперед ладонь и как-то странно ее изогнула.
— Мы быстро, — кивнула мама. — Пошли, Андрюша!
— Не торопитесь. Служенье муз, сами знаете, не терпит… Правда? — и тетка мне заговорщицки подмигнула. Я уткнулся в мамин рукав.
В тускло освещенном туалете стоял большой высокий унитаз. Вверх по стене от него ползла рыжая труба и пряталась в зеленую коробку. Из коробки сбоку свисала цепочка.
— Хватит головой вертеть! Давай по-быстрому, — говорила мама, расстегивая мне штанишки. И зачем-то вдруг сказала, словно обращаясь не ко мне, а куда-то в стену:
— «Служенье муз», велосипед… Что она мелет?
— Что, мама?
— Ничего! Давай быстрее делай свои дела, а то нас ждут.
Великолепный вид…
Этим великолепным видом, который удовлетворит самое горячее любопытства минуты за две, мне пришлось наслаждаться все детство и юность.
Через дорогу, высилось грубое серое здание, громоздкая будка, живое свидетельство вырождения большого имперского стиля — с треугольной крышей, из которой, как из щербатой десны, торчали короткие игрушечные трубы: общежитие для студентов из развивающихся стран, преимущественно африканских. Местные жители прозвали его «обезьянником». Справа от «обезьянника» архитектурная мысль лениво, но планомерно продолжавшая загромождать оцепеневшие пустоши типовыми пятиэтажками, вдруг безо всякой на то причины в середине семидесятых взяла и поставила здание метро. Оно напоминало мне мавзолей на Красной площади. Только тот красный, а оно было серым, как поначалу все здесь вокруг.
Сверху, с Девятого этажа, метро выглядело не по-ленински приземистым. Хотя почему не по-ленински? Очень даже по-ленински, учитывая отнюдь не исполинский рост вождя. Но сущностно все-таки не по-ленински. Потом станцию метро скрыла городская застройка нового тысячелетия. Видимо, власти наконец решили, что подобные сооружения жителям созерцать вовсе необязательно. Налево из нашего окна виднелось придавленное к земле здание бассейна, наполовину закрывавшее зеленый овал стадиона. А за ним высилась окруженная нечесаным парком политехнического института старая, почти готическая, водонапорная башня, возле которой, словно в карауле, замерли две исполинские фабричные трубы.
Если верить городским справочникам, в шестидесятые годы прошлого века вокруг круглой площади — она относительно моего окна располагалась чуть правее — стояли старинные двухэтажные особняки, уютные, почти игрушечные с зубчатыми башенками. Потом городские власти их снесли, оставив в назидание потомству только один. На их месте выросли красные кирпичные громады, к подножию которых тотчас же прилепились пивные ларьки, аккуратные, легкие, как спичечные коробки, только с крышами и козырьками. Чуть поодаль разместили гигантский правильный куб, кинотеатр «Выборгский», с фойе, рестораном, огромным залом, уютными креслами и широкой сценой, в правом углу которой стояло старенькое пианино, напоминая о золотых днях немого кинематографа.
И вот площадь Мужества, представлявшая собой некогда всего лишь лужайку с трамвайными рельсами — я в детстве думал, что трамвай едет прямо по траве, — площадь Мужества, способная похвастаться разве только ветхими старорежимными постройками, обреченными судьбой и временем на прогорклое забвение и общественной баней-шайбой, за которой виднелись унылые корпуса завода, та самая полуспальная площадь наконец-то обрела достойный цивилизованный вид, сознательную мощь многоярусного театра, имперское величие и масштаб.