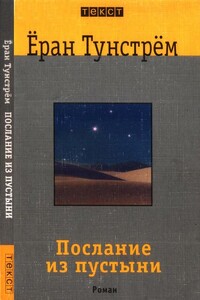Словно улыбка юной женщины, впервые увидевшей в оригинале Боттичеллиево «Рождение Венеры», вспыхнуло это утро над вересковыми пустошами, куда я взобрался, ожидая, что почерпну здесь силу от моих истоков. В бинокль я обвел взглядом горизонт — ведь нужно убедиться, что я один и что настоящее время ничем не помешает моим раздумьям.
Ничего такого не видно. Облака, которые окутывали вершину Фредлы, внезапно расступились, и на лужайку перед моим летним домиком хлынул свет. Впереди раскинулся синий морской простор, а в озерце неподалеку купались сотни морских ласточек. Еще тут были ржанки, кулички-сороки и чайки, временами, будто снежные тучи, налетавшие с птичьего базара. Восемь лошадей торговца играли, подталкивая друг дружку, прохладный ветер задувал с ледника, легонько шевелил пышные лиловые подушки горных васильков и спешил дальше, к лавовым полям Глухомани.
О эта земля! Похожая на распухшую бесперую утку, лежит она далеко в Атлантике земля, достойная музыки Вагнера. Будь я поэтом вроде моего отца, я бы, не раздумывая, написал для него либретто. Здесь мне хочется быть, и завывать на луну, и воскрешать в памяти трепет непостижимости. Ведь на пустошах ведутся иные разговоры, не такие, как внизу, в Рейкьявике. На пустошах мои персонажи бродят в иной обстановке, не такой, как требуют каноны реализма. Тут они возникают на периферии поля зрения лишь затем, чтобы вмиг исчезнуть, едва только я пытаюсь всмотреться в них. Здесь, наверху, они еще наброски, идеи, возможности. Их характеры зыбки, — словом, я еще ничего не знаю, потому что до сих пор страшусь знания, ведь оно смыкается вокруг, меж тем как прочитанная до конца книга оставляет тебя в одиночестве.
Я заглянул к старику Ислейвюру сказать, что дым из трубы там внизу — мой. Что я приехал на недельку-другую собраться с мыслями после смерти отца, кое-что написать.
— Н-да, Халлдоур… Я слыхал по радио, не пришлось ему дожить до старости.
Ислейвюр обтер две свои чашки (других у него не было) и предложил мне крепкого, настоянного на травах чаю.
— А сам, значит, поедешь…
— В Париж. Но послом человек бывает не всю жизнь.
Я сидел у окна, где стариковские запахи докучали меньше, и смотрел на Ислейвюрову землю, он жил здесь один; всю близкую родню, как он выражался, прибрал Господь.
— А тот футбольный мяч? Ты его так и не вызволил?
Он хихикнул, а я покачал головой, глядя, как свет растекается все дальше вниз по склону Фредды, теперь и южная стена моего дома оказалась на солнце. Не кто иной, как Ислейвюр, о котором говорили, что он на бегу мог поймать лисицу, научил меня всему, что я знаю о вересковых пустошах. О растениях. О подземных обитателях. О том, как черпать силу от своих истоков. О во́ронах. Это он однажды летом, когда мы с отцом гостили у него, взял меня за руку и повел к огромному птичьему базару на неприступной скале. Когда я спустя годы объявил, что хочу забраться на скалу и посмотреть на птиц поближе, его вдруг обуял необъяснимый и никогда прежде не виданный гнев:
— Никогда, мальчик мой. Никогда не тревожь их, ведь они как… как… — Он так и не закончил эту фразу.
Когда я начал спускаться вниз, день уже вступил в свои права: очертания предметов стали мягче, легкая дымка затянула автобусную остановку, гавань и пирс, но я приметил, что пастор Магнус Магнуссон, наш божественный форпост, как всегда, был там, вкушал субботние сласти.
Я вошел в дом, к белой бумаге, вере и сомнению, к мирозданью и хаосу, к попытке выстроить ту жизнь, что была когда-то и снова возникнет в реконструкции, жизнь если не его, то, по крайней мере, некая, а если не жизнь, то, может быть, повесть, более или менее приятный и занимательный рассказ о смешных нелепостях, которые все вместе зовутся любовью.
Отец мне еще и мать.
Он кормит меня вареньем из шикши и скиром[2]. Силком поит меня самодельным рыбьим жиром из акульей печенки, утирает нос и дома на кухне раскидывает надо мною свои широкие крылья — на кухне, где родилось такое множество хлебов, подошло такое множество пирогов. Стоит лишь зажмурить глаза — множество хлебов, множество пирогов, целый лес музыкальных инструментов, которые по-прежнему звучат, хотя живые так давно оставили их в углу возле печки. Моцарт, Шуберт. Нисходящие квинты Гайдна.
Музыка — и не только у нас. Свернешь на Скальдастигюр, пройдешь мимо тихого кладбища и словно попадаешь в волшебный край, возможно, благодаря барышне Вигдис из угловой квартиры. Ее окно всегда приоткрыто — не знаю, нарочно или нет, — но как только ты делаешь первый шаг по нашей улице, она непременно принимается играть «Приглашение к танцу» или какое-нибудь другое бравурное произведение, ведь под ее пальцами — пальцами учительницы музыки — любая пьеса становится бравурной, и целые охапки дивных звуков сыплются в окно и падают на мостовую, скачут, резвятся под ногами. Чуть подальше, в доме шесть, малышка Альда разучивает этюды Клементи, а совсем вдали распеваются перед осенним концертом в Сельфоссе участники Хора ветеранов-метеорологов.
Я хорошо знаю нашу улицу, так как продавал рождественские журналы во всех подъездах, бывал и у Йоуна Оскарссона, где пахнет спиртным, и у неразговорчивой тети Херборг, которая позволяет своим собакам писать в кустах нашей смородины, — везде бывал. Но больше всего мне нравится дома. Стоит лишь зажмурить глаза — и я вижу, как входят еще живые музыканты. Зануда Свейдн с Ньяльсстрайти, седовласый Бьярни Хельгасон, чей альт ненароком пускается в странствие по клинкерным плиткам, когда Фредла ревет, а стены дома дрожат и покрываются трещинами, навсегда. Я вижу, как Бьярни съеживается от страха и молитвенно складывает руки, хоть и нет у него Бога, чтобы молиться Ему.