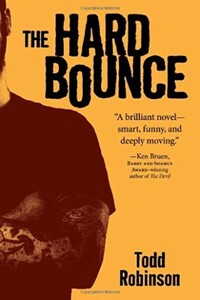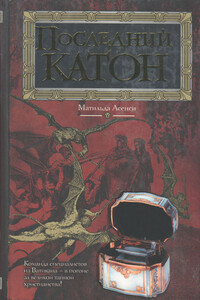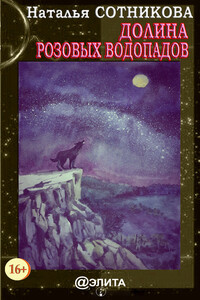Михаил Литов
Середина июля
Среди творений шведского драматурга Тумбы, сочинителя невинных сказочных действ, есть пьеса, в которую на русской сцене города Ветрогонска с некоторых пор повадились вводить более или менее явно выраженный порнографический элемент. Этой темы я еще коснусь, а пока расскажу о другой истории, по наивной дикости не уступающей тумбовым анекдотам. Впрочем, ее, так сказать, фантазм, ее глубокая иррациональность откроются далеко не сразу, чему причиной, на мой взгляд, некий все превосходящий, всеобъемлющий реализм ветрогонской жизни. Ветрогонск мало питает тягу к идеальному, а тем более к мистическому, он не грандиозен размерами, но велик основательностью, и человек здесь не просто обитает среди принявшей всевозможные формы материи, а сам сверх всякой меры материален. Поэтому ветрогонцу не трудно, как мне представляется, умирать. О, это высокое проявление у него, это смертность, проникнутая осознанием себя как долга перед жизнью. Понятие о ветрогонской бытовой сгущенности, вообще его напряженной собранности среди тьмы лесов, его внутренней теплой скученности легче всего извлечь из весьма незатейливого наблюдения: люди здесь нескончаемой чередой простаков, толстячков (а там, глядишь, промелькнет и худосочный холерик с интеллектуальным настроем!) рождаются и умирают, проживая порой даже и нетипичную, взыскующую запоминания жизнь, а город стоит себе как ни в чем не бывало, вбирая память об ушедших в тот же мерзкий отстойник, где собираются и отходы его бесперебойно работающего пищеварения. Почти всегда человека, впервые попавшего в сей дантов ад, в порыве к свету выскочивший на поверхность бытия, охватывает что-то вроде зависти к благостной, ни в коей мере не натужной, хотя, конечно, не лишенной некоторой сумасшедшинки успокоенности местных жителей. В его сознание случайного и скорее всего непрошенного гостя вдруг проникает настойчивая и тревожная мысль, что хорошо бы ему бросить все его суетливые хлопоты, которым он безумно отдается в своем привычном мире, и поселиться здесь с определившимся сразу и твердо чувством обретения устойчивости, покоя и мудрой безмятежности существования. Как ни обманчивы эти ощущения, в них есть своя логика, своя правда, своя соль. Еще, говорят, Ипполит Федорович Струпьев поддался внешнему очарованию Ветрогонска с такой силой и уверенностью, что о нем можно судить как о своего рода первопроходце в этой, собственно, бесконечной повести обмана, иллюзий, разочарований и в конечном счете обретения истины. Но с Ипполита Федоровича я как раз и хочу начать свой сумбурный и трепетный рассказ. Может быть, первого в этом человеке было то, что он понял: в Ветрогонске плавно обретаются отраженные в зеркале близкой отсюда столицы тени, как бы столичные жители наоборот или они же, но еще при остающейся у них жизни в столице каким-то образом наказанные частичным таинственным изгнанием и даже аллегорическим переселением в загробность.
Ипполит Федорович пожаловал в Ветрогонск из близких, но неведомых окрестностей, чуть ли не от земли, оттуда, где сама свалявшаяся в тумане и сырости жизнь придумала ему столь выразительную фамилию. Он ехал с целью заявить себя провидцем, толкователем человеческих судеб, большим знатоком земного и небесного жизнеустройства, а как поддался сходу обаянию Ветрогонска, то уж заявил обо всем этом даже чересчур громко, уже видя в своей миссии не столько подлинную и искреннюю историю развития его словно бы обожествляющегося духа, сколько залог ответной горячей и бережно ютящей его в Ветрогонске любви местных простецов. Он, пожалуй, и сам не заметил, как идеальное, боговдохновенное переплелось у него из-за страстей по ветрогонскому уюту с практическим и в некотором роде даже корыстолюбивым, а поэтому и нам не стоит об этом слишком распространяться. Когда он появился в Ветрогонске, было ему лет сорок с небольшим, но выглядел он старше своих лет, фактически старичком, он имел низенький росток и неказистую физиономию, бледную и унылую, как если бы долгое время использовался на каких-то подземных работах. Однако этот человек уже давно мертв, и дышит насущностью его наследство, а не его внешний вид. Он зарыкал было, провозглашая свой статус, и один критик заметил ему: вам бы взять свое медоточивой и обнадеживающей сказочностью, а вы тявкаете как иной комнатный Аттила. Ипполит Федорович с приспособленческой мудростью остепенился, насколько это было возможно в его положении кудесника. Со все подвергающей осмеянию точки зрения нашей эпохи, да и по тому времени, тоже просвещенному, он был просто сумасшедшим, который даже не пил вина, а когда впервые в жизни неожиданно для себя хлебнул лишнего - об этом впереди тотчас принял великую муку.
В Ветрогонске новоявленный Корейша первым делом поведал одной старушке, его дальней родственнице, что в вещем сне видел ее путешествующей на межпланетном корабле "Венера": она направлялась к обитаемым галактикам и держала в руках вымпел, бесхитростная символика которого оповещала граждан вселенной, что этот старушечий полет есть не что иное как проторение путей самому Ипполиту Федоровичу. Старуха от напора символов и пророчеств опешила и с перепугу приютила приблудного родича, и чем более темными становились речи этого странника, тем больше веры ему давали день ото дня прибавлявшиеся приверженцы. Особенно его акции подскочили после того, как он, внезапно пренебрегши путаницей, ясно и коротко предсказал скорую кончину замельтешившему было в этом узком сумеречном кружке старичку, а тот через несколько дней очутился под колесами трамвая. Чудо из чудес, если принять во внимание факт, сколь редко возникает в перспективах ветрогонских улиц, а возникнув, сколь неспешно продвигается дребезжащий металлический ящик с немногочисленными пассажирами внутри! Все намеки и бредни быстро ставшего кумиром всего мистического в Ветрогонске Ипполита Федоровича вертелись вокруг вопросов жизни и смерти, однако не производили тягостного впечатления, во всяком случае его доброжелательная и словно бы даже сытая улыбка подтверждала прописываемую им традицию не считать смерть трагедией и мрачным финалом человеческого существования, а видеть в ней прекрасную, праздничную ступень к воскресению и жизни вечной. Ветрогонск учил тому же, но тупо и без привлечения вечности.