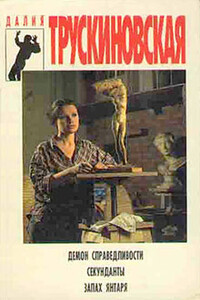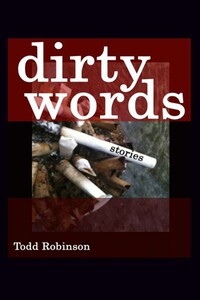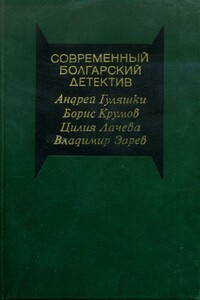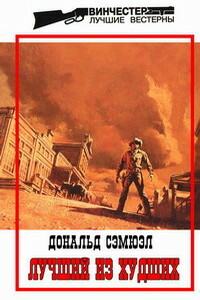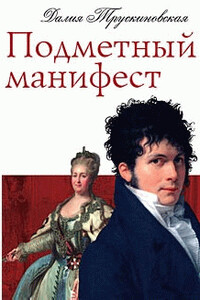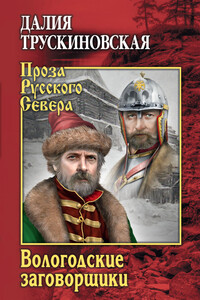![]()
Жизнь понемногу наладилась.
Убедившись, что Валька вовек не заработает больше двух тысяч в месяц, тесть, теща и Татьяна вдруг успокоились, да и его оставили в покое. Даже по утрам будить перестали.
Но Валька все равно слышал, как первой вставала теща, возилась в ванной, потом на кухне, минут через двадцать вставал тесть, тоже возился в ванной и перебирался на кухню, потом теща на цыпочках, уже совсем одетая, приходила в Валькину с Татьяной комнату вынуть из кроватки двухлетнюю Илонку. Заодно она будила Татьяну, и та осторожно перебиралась через Вальку – он любил спать с краю.
К восьми утра дома уже никого не было.
До девяти Валька слушал лежа радио или маг, потом брел на кухню. Завтракал он медленно и наслаждался одиночеством – за все сутки только эти полтора часа принадлежали ему безраздельно, и он их любил. Потом, застелив тахту, Валька одевался и ехал на завод – бездельничать.
За что ему платили эти два куска, почему еще не уволили – он понять не мог. Если совсем честно – не очень и пытался. Работа свелась к присутствию в крошечной конурке возле склада инструментального цеха, где Валька числился контролером ОТК. А фактически он несколько лет проработал художником-оформителем, хотя никакого художественного образования не имел. Начальство рассудило на редкость здраво. Чтобы размалевать дурацкий экран соцсоревнования, диплом не нужен, да и не положено такой штатной единицы – оформитель с дипломом. Опять же, без экрана ему, начальству, почему-то нельзя было, бескорыстно корпеть над ним никто не станет, и проще всего спрятать молодого и неприхотливого балбеса с гуашью и ватманом в конуру возле склада.
Как год назад, как два года назад, Валька ощутил на щеке поцелуи жены, но сон еще длился, вываливаться в утро не хотелось. Хотелось разве что включить радио, но как-нибудь так, чтобы без малейшего движения. И очень осторожно, по капельке перелиться из тьмы в свет, из ночи – в обыкновенное утро.
Потомившись минут пятнадцать, Валька высунул из-под одеяла руку, стараясь зря не расходовать драгоценное ночное тепло, включил радио и сразу же услышал начинающуюся песню.
Такие песни должны любить пенсионеры, подумал Валька, потому что вся она была насквозь старомодная. Но было в ней и обаяние, прелестная печаль о несбыточном, да и не хотелось второй раз высовывать руку, гонять настройку. Вот почему Валька просто лежал и слушал.
– Ночь весенняя блистала свежей южною красой, тихо Брента протекала, серебримая Луной, – описывал итальянскую ночь мнимо-беззаботный голос. – Отражен в волне искристой блеск прозрачных облаков, и восходит пар душистый от зеленых берегов…
Валька от души позавидовал тем, кто в такую ночь катается в гондоле. Еще и потому, что вот раскинулись на заднем сиденье, полоща холеные пальцы в адриатической воде, а лодка скользит, а над глазами – большие южные звезды. Прямо сон наяву.
Пока он так завидовал, песня подошла к концу и оказалось, что он ее толком и не услышал, так, хвостик поймал, про то, что смолкли пышные забавы, все спокойно на реке, лишь Торкватовы октавы раздаются вдалеке… Осталась лишь тоска, совершенно не утренняя, по той далекой гондоле и той поющей женщине, и тоска эта вдруг сложила в голове кусочек песни, откуда-то из середины, – и вдали напев Торквата гармонических октав… Что за октавы такие, подумал Валька, почему они звучат ночью над рекой?
Растревоженный немудреной песней, Валька выбрался из постели и на автопилоте побрел в ванную, думая, что Лешка наверняка скажет ему про эти Торкватовы октавы, его в детстве как раз на фоно играть учили целых три года, до бунта и вооруженного сопротивления.
По коридору Валька брел медленно, зная за собой способность со сна стукаться об углы. Но он все же споткнулся и чуть не влетел лбом в закрытую дверь. Это была упакованная пачка книг, судя по всему – толстых. Квартира иногда под завязку набивалась такими вот пачками. Теща наладилась промышлять дефицитными изданиями. Откуда-то она их привозила, куда-то увозила и даже похудела от этого бурного бизнеса. Валька в ее дела носу не совал. Но краешек бумаги он оторвал, чтобы посмотреть, что это за кирпичные тома. Стоя на корточках, он попытался прочитать слово на корешке, но буквы из серединки не складывались ни в какое знакомое слово. Тогда Валька осторожно вытащил всю книгу.
Это был солидный том в прекрасном темно-синем переплете и на газетной желтой бумаге. Наслушавшись за столом тещиных монологов, Валька стал в таких вещах разбираться. Автора звали Александр Корнилович. Валька открыл том, оказавшийся вторым, и прочитал – «История Петра Великого».
Со вздохом Валька засунул книгу обратно в стопку. Такую историческую тягомотину он бы и за деньги читать не стал. С него вполне хватило того Корниловича, которого еще в школе проходили. Теща в душе тоже не одобряла повального интереса к прошлому и позапрошлому веку. Но раз за Корниловича народ был готов платить деньги, даже за двухтомник на газетной бумаге, то и разговора нет!
На кухне Валька обнаружил макаронник, бутерброды с сыром и чайник со свежей заваркой. Чтобы не возиться с посудой, он поставил на стол всю сковородку, благо она достаточно остыла, и стал наворачивать макаронник прямо оттуда, особенно радуясь его поджаристым бокам. Бутерброды он решил унести в комнату и жевать их под хорошую музыку… впрочем, тот куплет так и не сложился, хотя явно записался на внутренний Валькин магнитофон. А музыка вот внутри слышалась, и даже виделась женщина – в длинном простом платье, с тяжелым узлом темных волос на затылке, с изящным профилем, сидящая почему-то не в гондоле, а за маленьким пианино. Рядом стоял круглый столик на ноге, на столике ваза, в вазе был большой букет. За столиком обнаружилось раскрытое окно. На подоконнике лежали скомканные перчатки и свернутый в трубочку лист бумаги.