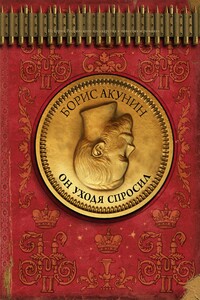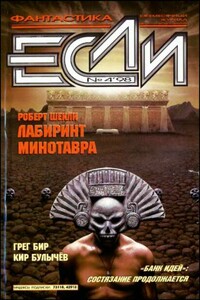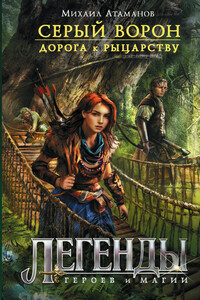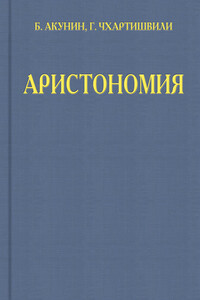Монах тряхнул седой головой, отгоняя дремоту, и Маркелка толкнул приятеля под столом коленкой: потягучей давай, пораспевнее.
Затянули на два голоса еще медленнее, тише:
– «Всякую шаташася языци, и людие поучашася тщетным…»
Об это время отец Гервасий всегда клевал носом от предвечерней истомы, а бывало, что и засыпал. Отроки понемногу убавляли силу голоса. Истомка водил пальцем по книге, Маркелка пел так. Память у него была исключительной цепкости, он мог хоть весь Псалтырь прогундосить от корки до корки.
– «Предсташа царии земстие, и князи собрашася вкупе…»
Ага! Уронил голову на грудь, засопел. Теперь можно было псалом не заканчивать. Но шуметь пока не следовало. Первый сон у учителя был мелкий.
Посему затеяли молчаливую игру в гляделки, кто кого переглядит. Победил, конечно, Маркелка. Он умел строить зверообразные рожи – то глаза к носу сведет, то пальцами растянет рот до ушей, а Истомка был смешлив. Начнет киснуть – на длинных девчачьих ресницах сразу выступают слезы, ну и смаргивал.
На восковой дощечке для письменного урока, где поверху было выведено лишь нынешнее число «Лета 120-го августа 10 дня в понеделок», проигравший согласно уговору накалякал стилусом: «Аз Истомка Батурин дурья башка и свиное рыло». Написал и тут же затер. Во-первых, обидно, а во-вторых, вдруг Гервасий пробудится? За такое глумление над наукой быть Истомке драным иль, хуже того, посаженным на сухоядение, хлеб с водой.
Однако Гервасий просыпаться не думал. Причмокнул проваленным беззубым ртом, всхрапнул, а это значило, что сон уже глубок и можно пошептаться.
– Сегодня понеделок. Твоя Бабочка придет. Хорошо б земляники принесла, – замечтал Истомка.
– Какая земляника в августе. Сейчас смородина, малина.
– Тоже неплохо бы.
Шептаться они могли, а встать из-за стола и уйти ни-ни. Даже на цыпках. От скрипа монах сразу пробудится, проверено.
Занятия проходили в Дубовой палате, где когда-то вкушала трапезы монастырская братия. Посреди палаты – каменный столп, а стены ради зимнего тепла обшиты дубовой доской, и полы тоже дубовые – потому так и звалась, Дубовой. Тем доскам лет сто или двести, и продержатся еще столько же, но их давным-давно не мшили, не паклевали, и дерево ужалось, подсохло. В стенах и особенно в полу большущие щели, иные в вершок и даже в два вершка. Там, внизу, своя жизнь: копошатся мыши, трещат сверчки, живет кикимора.
Сама Дубовая палата находилась в Трапезном корпусе, единственном каменном строении Неопалимовской обители, некогда богатого и людного монастыря. Раньше было в монастыре два храма, теплый да холодный, были многочисленные кельи, конюшни, гостиные избы, амбары, стены с башнями, а братии считалось до полутора сотен, но пять лет назад литовские люди иноков порубили и всё пожгли, только Трапезная и устояла. Из монахов уцелел один Гервасий. Говорит, что чудом Господним, а на самом деле благодаря схрону. Здесь, в Дубовой палате, со старинных времен устроен тайный чуланчик: две обшивные доски крепятся на незаметных петлях, и в стене малая ниша – прятать ценное. Когда напала литва – наскоком, неожиданно, так что и ворот затворить не успели, отец Гервасий, монастырский книжник, сидел в Трапезной, чинил переплеты. Спрятался в схрон, пересидел лихо. Спас себя и четыре книги, какие успел схватить: букварь, псалтырь, «Часослов» и «Смарагд веры». Ими, оставшись одинешенек, и кормился.
Сначала он пробовал брать плату с путников за ночлег. Рядом проходил великий Смоленский шлях, а дома в округе все порушены, целой крыши не сыскать. После того первого, литовского, разорения были и другие. Кто только не озоровал: поляки, казаки, свои русские. В придорожных деревнях давно никто не живет, лишь одичавшие собаки. А в бывшем монастыре каменное здание, почти целое, и хозяином в нем Гервасий. Однако жить постойным доходом у старика не вышло. По шляху не боялись ездить только люди сильные, хищные, оружные. Эти ничего не платили – спасибо, если не прибьют. Прочие же крались тихо и укромно, обочинами. Да и платить за ночлег им было нечем. Которые просились под крышу Христа ради, отдаривались краюшкой хлеба, щепотью соли, парой репок или морковок. Давно подох бы монах от таких прибытков, если б не учительство.
А только и с этим было худо. От великой хлебной скудости, от ужасного повсеместного воровства и грабительства разбрелись люди подальше от шляха, забрали детишек с собой. Осталось у Гервасия два ученика: Маркел с Истомкой.
Маркел – потому что Бабочка жила в глухом лесу и лихих людей не боялась. Истомка – потому что его родитель, боровский воевода, поклонился Гервасию всем, что имел: дал связку вяленой рыбы и мешок муки за призрение сынка, а сам ушел спасаться куда глаза глядят. Не над кем ему стало воеводствовать. Ни стрельцов в Боровске не осталось, ни жителей.
Но рыба с мукой давно съедены, воевода бродил невесть где или, может, давно сгинул, и Истомка теперь жил нахлебником, чем Гервасий ему каждодневно пенял, а плату давал только Маркелка, верней Бабочка. Ее понедельничными приношениями и выживали.