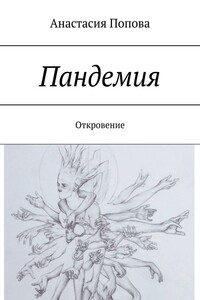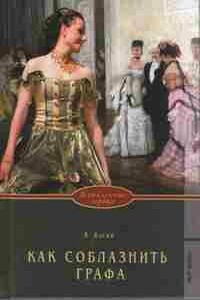Школа, где я учительствовал, находилась, к удовольствию учителей и учеников, в самом центре города. Пройдешь несколько шагов — и вот тебе кафе или пивная.
Я облюбовал себе одно кафе на рыночной площади. Кафе помещалось на втором этаже, а под ним была лавочка, в которой поджаривали кофе. Восхитительный аромат растекался по лабиринту рыночных палаток, смешиваясь с запахами сельдерея, яблок и хризантем, — напав на его струю посреди площади, можно было добраться по ней до источника, иными словами, витрины лавочки, где в сверкании красной эмали и хрома вращалась великолепная механическая жаровня, настойчиво напоминая о том, что кофе по запаху лучше, чем на вкус.
Два-три раза в неделю я ходил в кафе пить чай с другом, которого звали Том. Он служил бухгалтером-экспертом, и его фирма занимала здание, стоящее на полпути между школой и рыночной площадью. Том работал по исчислению подоходного налога и недурно зарабатывал — он мог бы вообще жить припеваючи, если б поддался на уговоры иных городских жителей заглянуть после работы к ним в контору и поколдовать над налоговой декларацией. Но Том предпочитал проводить свой досуг иначе.
Мы были друзьями не первый год. И он, и я мечтали добиться успеха на литературном поприще. За те шесть лет, что я провел в этом городе, работая учителем, я напечатал три романа. Том напечатал один. Втайне я считал, что как писатель я в три раза лучше Тома. Шел февраль 1939 года, и было мне в то время двадцать восемь лет, а Тому — двадцать семь.
Не стану из деликатности называть фамилию Тома. Что касается прочих его примет, их скрыть будет невозможно. Так, например, при всем желании нельзя было сразу же не заметить, что Том рыжий и что он еврей это просто бросалось в глаза. У него были густые, буйные, огненные кудри и внушительный нос. Весил он фунтов на пятнадцать больше меня и, похоже, пошел бы в этом отношении гораздо дальше, если бы не пребывал постоянно в вихре бурной физической деятельности.
Он был круглоголов, с зеленоватыми глазами и капризно надутыми губами. За его острый ум и горячий нрав я был искренне привязан к нему. Что он умел подавлять других силой своей личности, заметить было трудней.
Бывает, что собственный образ, созданный человеком в воображении, ничуть не менее интересен, чем сам человек. Образ, созданный Томом, был ничуть не менее интересен, чем он сам, и уж, во всяком случае, куда более поразителен; он пленял чертами романтического величия. Том представлялся самому себе великим знатоком человеческой натуры, великим писателем, великим ценителем всего, что стоит ценить в этой жизни, а также великим любовником. Великим бухгалтером-экспертом он себе не представлялся. Не представлялся он самому себе и великим шутом — ничем, по сути, не отличаясь в этом смысле от нас, грешных.
Том обладал удивительной способностью неотвязно давить на чужую психику. С милой непринужденностью он донимал человека до тех пор, пока тот не поступал вопреки собственному желанию. Меня он тормошил постоянно — в особенности, например, насчет нашего дома за городом. Мы с Томом на паях снимали дачу в десяти милях от города с условием, что будем по очереди проводить там выходные дни. Так вот я по двум весьма серьезным причинам хотел, чтобы условие это выполнялось: во-первых, я имел на то законное право, а во-вторых, на этой дачке меня навещала девушка — молодая, очень хорошенькая девушка по имени Миртл.
Неудивительно, таким образом, что мое желание сохранить за собой свое законное право было достаточно сильным. Том, человек другого склада, смотрел на вещи иначе. С пафосом, страстью, пылом и изобретательностью, какие мне и не снились, он без устали меня донимал, пытаясь оттеснить меня, когда подходила моя очередь.
Рисуя себе свой портрет, Том был кое в чем верен правде. Он был не робкого десятка и доступен самым разным оттенкам душевных переживаний, обладал умением тонко и трезво разбираться в людях и ненасытным любопытством к ним. Если вы искали, кому бы поведать о себе всю подноготную, лучшего слушателя было не найти — беда только, что, стремясь вызвать собеседника на откровенность, Том склонен был, заручась его обещанием хранить тайну, выложить ему в очередной раз собственную подноготную.
Обычно я приходил в кафе первым. Это было превосходное заведение; я остановил на нем выбор за то, что в часы, когда принято пить чай, тут не было опасности увидеть на столиках судки для приправ и бутылочки с кетчупом. Том считал, что это чистая блажь.
— При подлинном интересе к человеческой душе ты не замечал бы никаких судков, — говорил он с большим знанием предмета.
Кафе было превосходное, и Том, заказывая себе чай и пирожные с кремом, не мог удержаться и всякий раз проделывал это весьма элегантно. Он подзывал официантку аристократическим мановением руки, небольшой и изящной. На официантку это производило впечатление.
Пожалуй, я позволю себе открыть, что фамилия, которую носил Том, была, увы, отнюдь не Уэйли-Коэн или, скажем, Сибэг-Монтефиоре — какое там! А он был бы совсем не прочь принадлежать к аристократическому роду. Руки у него годились бы для этого хоть куда, а лицо подвело. Нет, в чертах его вовсе не было ничего грубого, но, к сожалению, и ничего хоть мало-мальски аристократического. Сильно портило дело то, что он был рыжий, и он относился к этому довольно болезненно. Когда он прочел в первый раз «A la recherche du temps perdu»