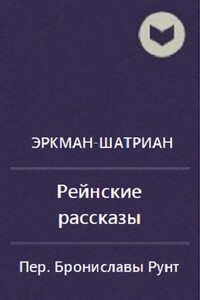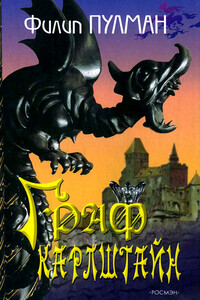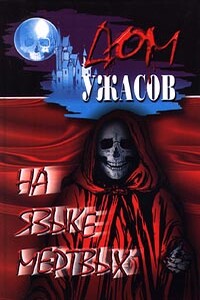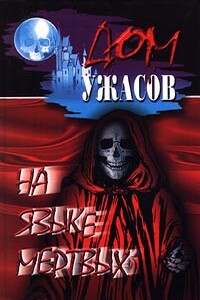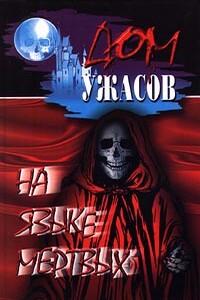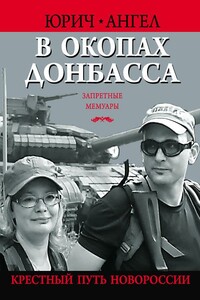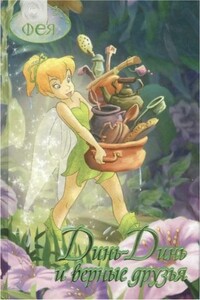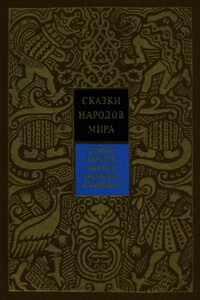Мой дядя Захарий был самый любопытный чудак, которого я когда-либо встречал. Представьте себе маленького человека, толстого, короткого, тучного, с ярким цветом лица, с животом в виде бурдюка и с расцветшим носом: это портрет моего дяди Захария. Этот достойный человек был лыс, как колено. Он носил обычно большие круглые очки и, в качестве головного убора, маленькую чёрную шелковую шапочку, покрывавшую ему лишь верхушку головы и затылка..
Мой дядя любил смеяться; любил он также фаршированную индейку, паштет из гусиных почек и старое иоганисбергское, но всему на свете он предпочитал музыку. Захарий Мюллер родился милостью Божьей музыкантом точно так же, как другие рождаются французами или русскими; он играл на всех инструментах с удивительной ловкостью. Нельзя было угадать, глядя на его наивное добродушие, сколько веселья, вдохновения и живости может таиться в этом человеке.
Таким Бог создал соловья: лакомкой, любопытным и певцом, - мой дядя тоже был соловьем.
Его приглашали на все свадьбы, на все празднества, на все крестины, на все похороны. "Мастер Захарий", говорили ему, "нам нужна плясовая или аллилуйя, или реквием к такому-то дню", а он просто отвечал: "Он будет у вас". Тогда он принимался за работу, насвистывал перед своим пюпитром, курил трубки и, покрывая целым дождём нот свою бумагу, отбивал такт левой ногой.
Дядя Захарий и я, мы жили в старом доме на улице Миннезингеров в Тюбингене; он занимал там нижний этаж, настоящую лавку старьевщика, заваленную старой мебелью и музыкальными инструментами; я же спал в верхней комнате; все остальные помещения оставались незанятыми.
Как раз против нашего дома жил доктор Газельносс. По вечерам, когда в моей комнатке становилось темно, а окна доктора освещались, мне казалось, по мере того как я все смотрел и смотрел, что его лампа приближалась... приближалась... и окончательно касалась моих глаз. И в то же время я видел, как силуэт Газельносса колеблется странным образом на стене, с его крысиной головой в треуголке, кисть которой качалась справа налево, с его широкополой одеждой, и его тонкой фигурой, насаженной на пару тощих ног. Я различал также, в глубине комнаты, витрины, наполненные чужеземными животными, блестящими каменьями, и в профиль - корешки книг, блестящих своей позолотой и расставленных, как для битвы, на полках книжного шкафа.
Доктор Газельносс, после моего дяди, был самым оригинальным лицом в городе. Его служанка Оршель похвалялась, что стирает его белье только через каждые шесть месяцев, и я охотно поверил бы этому, так-как на рубашках доктора были жёлтые пятна, что говорило о количестве белья, бывшего в его шкафах; но самой интересной особенностью характера Газельносса было то, что всякая кошка или собака, переступившая порог его дома, никогда больше не показывалась. Бог ведает, что он с ними делал. Народная молва обвиняла его даже в том, что он носил в одном из своих задних карманов кусок сала, чтобы приманивать этих бедных животных, и когда он отправлялся по утрам к своим больным, и когда он проходил, мелкой рысцой, перед домом моего дяди, я не мог не смотреть без смутного страха на большие полы его одежды, развевавшейся во все стороны.
Таковы самые яркие впечатления моего детства. Что меня более всего пленяет в этих отдаленных воспоминаниях, что скорее всего встаёт в моем уме, когда я мечтаю о дорогом Тюбингене, - так это ворон Ганс, летавший по улицам, грабивший выставку мясников, схватывавший на лету все бумаги, проникавший в дома; ворон, которым все восхищались, которого все берегли и подзывали: "Ганс! сюда"... "Ганс! туда"... Поистине - странное животное; однажды он прилетел в город со сломанным крылом: доктор Газельносс вправил ему крыло, и все усыновили Ганса. Один давал ему мяса, другой сыру. Ганс принадлежал всему городу, Ганс находился под общественным покровительством.
Как я любил этого Ганса, несмотря на крепкие удары его клюва! Мне кажется, что я вижу еще, как он подпрыгивает на обе лапки по снегу, слегка повёртывает голову и поглядывает краем своего черного глаза, с насмешливым видом. Если что-нибудь падало из вашего кармана, крейцер ли, ключ ли, все равно что, Ганс хватал это и уносил на чердак церкви. Там он устроил свой склад и там скрывал плоды своего хищничества, так как Ганс, к сожалению, была птицей вороватой.
Впрочем, дядя Захарий не мог выносить этого Ганса; он называл жителей Тюбингена болванами за то, что они привязались к подобному животному, и этот человек, столь спокойный и кроткий, терял всякое чувство меры, когда случайно его глаза встречали ворона, парившего перед нашими окнами.
В один прекрасный октябрьский вечер дядя Захарий казался еще более весёлым, чем всегда; он за весь день не видел Ганса. Так как окна были открыты, то радостное солнце проникало в комнату; вдали осень раскидывала свою прекрасную ржавую окраску, с таким великолепием выделяющуюся на тёмной зелени елей. Дядя Захарий, откинувшись в своем широком кресле, спокойно курил свою трубку, а я смотрел на него; спрашивая себя, что могло заставить его улыбаться самому себе, так как его доброе широкое лицо блестело неизъяснимым удовольствием.