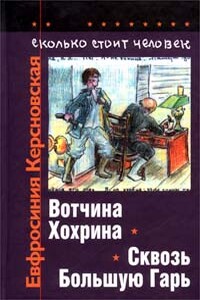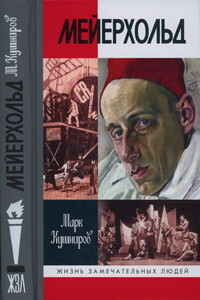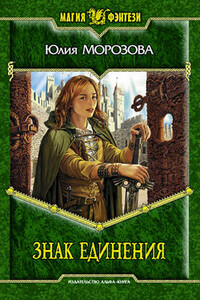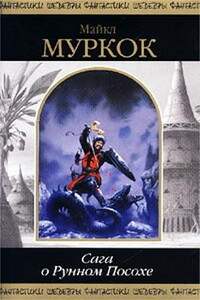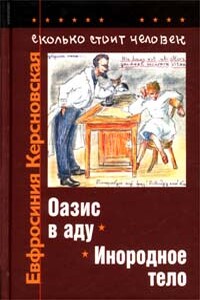Тетрадь девятая: 1947–1952.
Черная роба или белый халат
Нелегок был мой путь в шахту! Даже двести метров от вахты до барака я осилила с превеликим трудом. В бараке меня встретили хорошо. Там оказалась женщина, недавно вернувшаяся из центральной больницы лагеря и знавшая о том, что я добивалась отправки в шахту и долго держала голодовку. Отчего это вызвало ко мне симпатию, не знаю. Может быть, оттого что иногда сумасшедших считают святыми? Тогда я могла сойти за дважды святую: добиваться отправки из ЦБЛ в шахту было явным безумием, объявлять же с этой целью голодовку — безумием вдвойне.
Меня накормили, чего в лагере нельзя требовать даже от близких друзей. Хлеба мне дать не могли, зато супа из голов соленой трески, заправленного отрубями, и вики (мелкой кормовой чечевицы) с примесью земли я могла поесть. В пределах благоразумия, разумеется: после одиннадцати дней голодовки всякое «излишество» могло оказаться роковым.
Впрочем, великодушие обитательниц восьмого барака несколько обесценивалось тем обстоятельством, что здесь жили «лорды» (работающая в городе аристократия) и мамки.
Лагпункт «Нагорный» прилеплен к южному склону горы Шмидта, или, как ее называют, Шмитихи. Кому и зачем надо было строить такое неудобное «ласточкино гнездо», мне не совсем ясно. Очевидно, здесь велись изыскания: были пробиты несколько шурфов, а поскольку рабсилы (в данном случае не рабочей, а рабской силы) хватало, то и построили этот лагпункт. Но никакой шахты тут не заложили, рабочих перегнали в первое лаготделение, поближе к шахтам и рудникам, а в опустевшие бараки согнали женщин из других лаготделений.
«Дайте покормить его впоследний раз!»
Чрезмерная усталость, съеденный суп и нервное напряжение последних дней свалили меня с ног, и я, едва взобравшись на верхние нары, уснула мертвым сном. Но не настолько мертвым, чтобы не проснуться от душераздирающих рыданий. Сначала я не уловила смысла представившейся мне картины. Какая-то старушка быстро, мелкими шагами, спешила покинуть барак; в ее руках был маленький ребенок, завернутый в синее одеяльце, а под мышкой— клюка. От быстрой ходьбы полы бурнуса и кисти выцветшего платка хлопали, как крылья курицы в период линьки. В проходе против окна стоял, широко расставив ноги, солдат-охранник и отпихивал молодую женщину, почти девочку, которая рвалась к старухе.
— Мама, постойте! Дайте мне его в последний раз покормить!
В дверях стояла группа мамок. Вздыхая, они говорили:
— Счастливая она, Маруся! Счастливый и ее Валера: все родной глаз за ним доглядит. Пусть через десять лет, да встретятся. А наши, где они расти будут? Если живы останутся, что их ждет — арестантский детдом? Или кто-то возьмет «в дети»? А если и вернут, кто скажет, мой ли он?
Все на свете относительно, и представление о счастье тоже. Я видела только жестокость: у молодой матери отбирают ее первенца. Мать не увидит его первого шага, не услышит слова «мама», сказанного ей сыном. Но он будет не у чужих. После я узнала, что старуха не мать, а бабушка Маруси Белоконь, воспитавшая и саму Марусю, оставшуюся сиротой. Там, в деревне на Украине, старуха будет растить сироту, а тут, в лагере, его мать станет проституткой… Это неизбежно. Она не выдержит голода и труда.
Из лагпункта «Нагорный» гоняли конвои во все стороны: больше всего — в Угольное Оцепление (шахты 11 и 13/15 — уголь; рудник 7/9 — никель и медь; рудник 2/4 — силикаты, РОР — рудник открытых работ и «Кислородный»). Там же жили работники ЦУСа — центральной угольной сортировки. Меньшее количество водили в сторону города: служащих, рабочих, геологов и проектантов, тех, кто работал в поликлинике, больнице для вольнонаемных, и… грязнорабочих. Жили на «Нагорном» и бесконвойные, и те, у кого был бригадный пропуск. Еще были малые группы: артистки крепостного театра и мамки — сюда сгоняли всех беременных, которые уже не работали и вот-вот должны были рожать. Одним словом, «Ноев ковчег». Количество «голов» — от 800 до 1000.
Вопреки всем законам ИТЛ, меня никто не торопил на работу, хотя мне и в голову не приходило обратиться в санчасть. Впоследствии я узнала, чем объясняется это «великодушие». Я была до того истощена перед отправкой сюда, что все были уверены — я свалюсь и санчасть вернет меня в центральную больницу лагеря, где я и образумлюсь. Со мной не прислали «аттестата» на питание, и меня акцептировала, то есть ставила на довольствие, ЦБЛ. Всего этого я тогда не знала. А те, кто это придумал (Никишин? Миллер? Иванов?), не знали меня.
С утренним разводом я пошла за акцептом от шахты. Какую шахту я избрала полем своей деятельности? Смешно, но я даже не знала, сколько этих шахт имеется! Ведь я и мысли не допускала, что до этого дойдет. Когда не знаешь, то лучше всего предоставить решать случаю. Я просто стала в пятерку (здесь нас считали пятерками) и лишь в пути узнала от случайной соседки — высокой красивой девушки, украинки-западницы, — что это шахта № 11. Что ж, может, это даже лучше, чем чертова дюжина — № 13.
В раскомандировке — толчея. Меня немного оглушило: грязь, угольная пыль, шахтеры — все, как черти, черные.