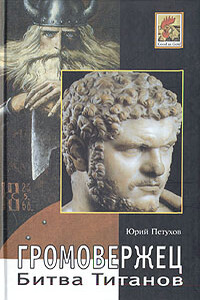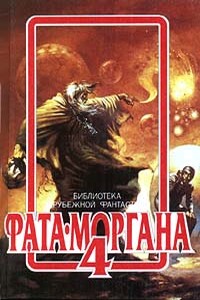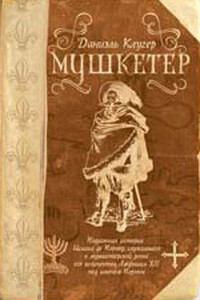Он лежал ничком в кромешной тьме, широкой и липкой. Не черной, но лишенной цвета и оттого еще более темной.
Он лежал уже много дней. Дней и ночей. Вернее, это было то, что люди привыкли называть «дни и ночи».
Он был один.
Одиночество оказалось не таким страшным, как представлялось раньше. Оно и не могло быть страшным. Потому что страх — чувство, и чувство сильное, заполняющее человека целиком, проникающее в каждый уголок разгоряченного сознания. И потому для того, чтобы страх проявился полнее, нужно великое зеркало — люди. Свидетели. Хотя бы немного. Хотя бы один. Да что там! Даже боги — бессмертные — и те нуждаются в свидетелях своих чудес и страстей.
Поэтому — именно поэтому, хотя и не только поэтому — нет в одиночестве страха. Есть страх в ожидании одиночества, предчувствии его. Впрочем, кто знает, отсутствие страха — не есть ли оно то самое?
Итак, он был один.
Совершенно один в смрадной яме, на подстилке из гнилой соломы, пропитанной его собственными испражнениями.
Протянув руку, жившую, впрочем, отдельно от него, как странное самостоятельное существо, он мог натолкнуться на некий предмет, шершавый на ощупь, от которого тянуло влагой. Это была глиняная посудина, в которой плескалась вода. Он не мог бы объяснить, как она появлялась здесь. Но она появлялась.
Водой можно было смочить распухший язык. Тогда, на короткое время, появлялась иллюзия возвращения жизни.
Именно иллюзия, потому что нельзя с уверенностью ответить на вопрос: жил ли он? Темнота — древняя, дремучая тьма, тяжко вздыхающая, почти осязаемая — жила, а он? Жил ли он?
Его бросили сюда, в подобие высохшего колодца. Его скрыли — скрыли от мира, скрыли от людей, скрыли от света — во мрак. И не только от света. И не столько от света, сколько от смены света и тьмы, от той загадочной смены противоположных явлений, которая составляет суть человеческих представлений о времени.
Он потерял счет времени. Он уже не знал, нужно ли здесь время? есть ли он? что такое время?
Он потерял счет времени, утратил представление о времени так, как иные теряют память. Впрочем, возможно, память он потерял тоже. Он утратил даже последнюю, зыбкую связь с тем, что было прежде: он перестал видеть сны.
Почти перестал.
Раньше, в самом начале, ему снилось многое. Ему снились лица: мужские, женские, детские. И лицо старика.
…желтый воск, застывший, расписанный иглами времени, твердыми, острыми, безжалостными, и ссохшийся хрупкий пергамент век, потрескавшийся, туго, до хруста натянутый на выпуклые глазные яблоки, и клок седых волос, наподобие войлока, прилепленных к подбородку, остро торчащему в небо…
…море — синее, сине-зеленое, серое, свинцово-серое, черное, ровное, гладкое, вспаханное мотыгой ветра, бурное, гневно кричащее сотней изменчивых глоток — и белые, белые, белые пряди срываются в небо, в зеркало, отражающее море…
…степь рыжая, и зверь, застывший в рывке, убегающий от стрелы, недвижно висящей в густом летнем воздухе…
И еще ему снились глубокие, непонятные глаза… женские глаза…
Ему снилось все это — в начале, — и с каждым разом бледнее, бледнее… Темнота растворяла видения. Постепенно, медленно, но неуклонно. И видения пропали вовсе. Ему начала сниться яма. Все время яма. Эта яма. Эта проклятая яма.
Эта великая Яма.
Он просыпался — и видел яму. Он засыпал — и снова видел яму. Только ее.
Грязная солома, гнилая солома, не солома даже, а комок овеществленной сырости — от нее тянуло липким и вонючим теплом.
Временами ему казалось, что солома накрепко приросла к коже. Тогда он внезапно вскакивал, больно ударяясь ногами и начинал яростно скрестись, чувствуя отвратительный, нестерпимый зуд во всем теле, раздирая себе кожу до крови и не находя облегчения. В яме поднимался звон — от цепей.
После этого где-то наверху шаркали неспешные шаги и кто-то склонялся над ямой. Сверху падало:
— Что, еще не сдох? Ничего, скоро сдохнешь. Да не греми ты, оборванец!
И проговорив добродушно-ленивым тоном эти обязательные слова, некто в тусклом шлеме снова исчезал.
Слова еще некоторое время парили в бесцветном душном воздухе, цепляясь за стены:
— Скоро сдохнешь… С-с-ско-оро-о с-сдо-ох-неш-ш-шь…
Узник на некоторое время успокаивался. Он подбирал цепи и снова укладывался на подстилку. Иногда — покружившись на месте несколько раз, как собака, совершающая обязательный ночной ритуал.
Постепенно тусклый квадрат над головой темнел (или так только казалось?). И узник закрывал глаза и проваливался в сон.
Чтобы снова видеть во сне великую Яму.
И так было долго, нестерпимо долго.
Однажды, когда в яме вновь поднялся звон от цепей, человек в шлеме, как обычно, наклонился и сказал:
— Еще не сдох? — но вместо ожидаемого «скоро-сдохнешь-скоро-сдохнешь» вдруг с оглушительным грохотом отодвинул тяжеленную решетку, делившую большой квадрат на множество маленьких, и крикнул:
— Держи!
Перед лицом узника заплясал конец веревки.
— Лезь сюда!… Живо, дохлятина!..
Живо!
Легко сказать — живо. Видно, человек в шлеме никогда не сидел много дней и ночей на грязной подстилке. Его руки всегда были сильными и цепкими. Его ноги всегда крепко и уверенно стояли на земле. Его желудок никогда не испытывал недостатка в сытной и вкусной пище. Его никогда не покидало чувство времени, потому что для него важным было слово «когда». Когда есть? когда спать? когда оправляться? когда совокупляться?