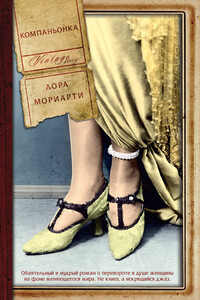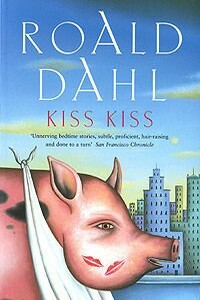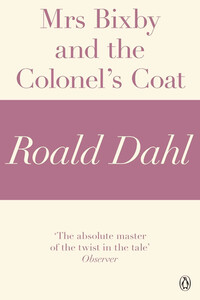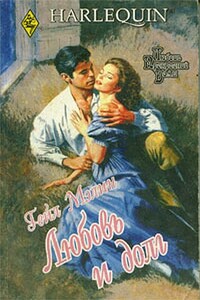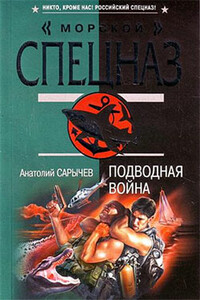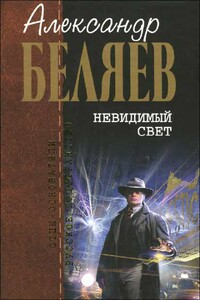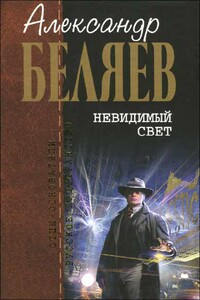1947
За окном поезда усыпанная золотистыми блестками женщина в сари цвета манго пришлепывала коровьи лепешки, придавая им нужную для печи округлую форму. Сидя в грязи, она умудрялась сохранять благородное достоинство. Черные волосы закрывали лицо, и, даже когда земля под ее босыми ногами задрожала при подходе нашего поезда, она не подняла головы, не повернулась. Мы проносились мимо полуразрушенных, обожженных солнцем деревень, и чем дальше от Дели, тем чаще попадались толпы людей и неспешно тащившиеся вдоль дороги животные — горделивые верблюды, горбатые коровы, быки, тянущие повозки, козы, обезьяны и отчаянные собаки. Люди шли медленно, с какими-то сосудами на голове, с узлами и вязанками за спиной, а я пялилась на них, точно невоспитанная туристка, стыдясь собственной бесцеремонности, — они были самыми обыкновенными людьми, живущими своей обычной жизнью, и мне бы наверняка не понравилось, если бы дома, в Чикаго, кто-то таращился на меня вот так же, словно на какую-то диковинку на выставке, — но не в силах была отвернуться.
Поезд остановился из-за вышедшей на рельсы коровы, и к нашему окну приковылял покрытый язвами прокаженный, протягивая изуродованную, беспалую руку. Мой муж, Мартин, бросил ему монетку, а я, чтобы отвлечь Билли, пробежала пальцами у него по ребрам. Он захихикал и, подтянув к груди коленки, съежился, а я, неловко улыбнувшись, встала, загораживая окно.
— Нечестно, — выдохнул сквозь смех Билли. — Ты меня не предупредила.
— Не предупредила? — Я пощекотала его под мышкой, и он пискнул. — Значит, не предупредила? Ну, это было бы неинтересно.
Мы еще побаловались немного, пока поезд не тронулся, унося нас от благодарно кланявшегося прокаженного в грязных лохмотьях.
Год назад, в начале 1946 года, сенатор Фулбрайт объявил об учреждении поощрительной программы заграничных исследований для молодых ученых, и Мартин, писавший докторскую о политике современной Индии, получил стипендию для сбора материалов о завершении британского господства в этой стране. Мы прибыли в Дели в конце марта 1947-го, примерно за год до объявленного ухода англичан из Индии. После двухсотлетнего владычества империя потерпела поражение в противостоянии с щуплым человечком в набедренной повязке, и вот теперь британцы собирали вещички. Однако перед уходом им предстояло прочертить новые границы, определить по своему усмотрению разделительные линии между индусами и мусульманами, произведя на свет новое государство — Пакистан. Любой историк ухватился бы за такое предложение обеими руками.
Я, конечно, понимала и высоко ценила благородную цель устремлений Фулбрайта и растущую озабоченность мирового сообщества по поводу разъединения Индии, но втайне мечтала о шестимесячной сказке в романтическом обрамлении пейзажей из «Тысячи и одной ночи». Пьянящая перспектива приключений, волнительное ожидание начала чего-то нового для нас с Мартином обернулись тем, что я оказалась совершенно неподготовленной для встречи с угрюмой реальностью — нищетой, очагами на коровьих лепешках и прокаженными. И это в двадцатом веке!
И все же я нисколько не жалела, что приехала. Мне хотелось своими глазами увидеть диковинный мир Индостана и выведать тайну его жизнестойкости. Я хотела понять, как удалось этой стране сохранить свою самобытность, свой характер вопреки беспрестанным нашествиям завоевателей, продиравшихся к ней через джунгли и горы, приносивших своих богов и свои правила и порой надолго, на века, устанавливавших здесь свою власть. Мы с Мартином не сумели удержать наше «мы» после всего лишь одного испытания в одной войне.
На все, что открывалось за окном, я смотрела через новые солнцезащитные очки, большие, в пластмассовой оправе, с бутылочно-зелеными линзами. Мартин носил очки обычные и постоянно щурился из-за жгучего индийского солнца, но говорил, что ему это не мешает. Он даже шляпу не надевал, что уж совсем глупо, — такой вот упрямец. Темно-зеленые очки и широкополая соломенная шляпа придавали мне уверенности, в них я чувствовала себя в безопасности, а потому носила и одно и другое повсюду.
Мы проезжали розовые индуистские храмы и беломраморные мечети, и я несколько раз поднимала свой новенький «кодак-брауни», но никаких признаков извечной вражды между индусами и мусульманами не замечала, а вот ощущение, что люди выживают из последних сил, крепло. За окном мелькали деревни с глинобитными лачугами, непонятные кучки кирпичей, жалкие навесы из натянутой между бамбуковыми палками холстины и уходящие в туманную даль поля, засеянные просом.
Воздух пах дымом, потом и специями, и, когда в купе полетела пыль, я закрыла окно, достала щетку, мягкую мочалку и разведенный спирт для растирания, которые держала в сумочке, и взялась за Билли. Он терпеливо сидел, пока я обмахивала пыль с одежды, протирала лицо и расчесывала до блеска его светлые волосы. К тому времени бедняжка уже привык к моей невротической одержимости чистотой, и тот, кто знает, какие безумные формы принимает тяга к соблюдению приличий, поймет, сколько времени я тратила в Индии на безрассудную борьбу с грязью и пылью.