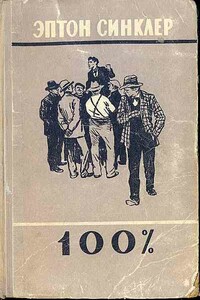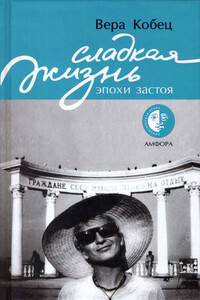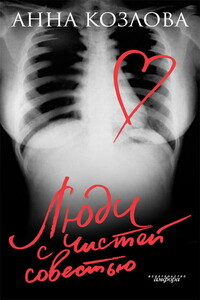Деревня Шенау в Швейцарских Альпах — прекрасное место для уединения. Эдакий тихий уголок, навевающий тоску и смутные воспоминания о Феокрите. Вокруг горы — по утрам снег на вершинах искрится и слепит глаза. Внизу — изумрудные луга, пастбища, где коров пасут поистине аркадские пастушки. Солнце светит здесь круглый год. Свежий высокогорный воздух приятно обжигает ноздри. Из каждого угла несет лавандой. Повсюду виднеются полевые цветы, склонившие пышные венчики под тяжестью шмелей или жуков, закованных в золотые панцири.
Мы последний раз путешествовали втроем.
Я, Сельвин и Салтана.
Перед отъездом в Швейцарию она оставила своему давнему фавориту (у него была странная фамилия фон Шницкий) патетическую записку, в которой сквозь бред и блажь прорывалось невнятное желание расстаться. Я знал, что подобные записки фон Шницкий получает так же часто, как изменяет Салтане. Но Сельвин был странно воодушевлен, узнав о мнимом разрыве. Подарил Салтане сто сорок лилий и, видимо, надеялся наконец воссоединиться с ней. В поезде Салтана плакала. Театрально куталась в меховую накидку. Наотрез отказывалась есть и пару раз даже пыталась выброситься на рельсы.
Сельвин нависал над ней, как туча над городом. Увещевал и уговаривал. Покупал конфеты и засахаренный миндаль, который Салтана презрительно топтала каблуками. Я посоветовал ему оставить ее в покое. Салтана углубилась в чтение Захер-Мазоха, мы пили шампанское. Время от времени она поднимала глаза с рыжими ресницами, окидывала почему-то меня таинственным взором. Может, входила в роль своенравной Венеры в мехах?
На германской границе она изъявила желание выпить шампанского. В Берлине зачем-то купила набор солонок. Когда мы вышли из поезда в Цюрихе, она опиралась на руку Сельвина и несла чушь. Я нес свои чемоданы молча. Салтана рассказывала изумленному Сельвину, что у фон Шницкого не ноги, а настоящие копыта. Меня до боли не волновал фон Шницкий. Я ускорил шаг.
Салтана была чистокровной полькой. Всю свою жизнь прожила в Варшаве и почитала ее больше всех других городов. Вежливо зевала из двуколки, катающей ее по Парижу. В Риме ни разу не вышла из отеля — опасалась солнечного удара. Салтана была глупа, скучна и похабна. Не в пример героиням любимого ею Мазоха посредственна и скованна в постели. Она всегда легко соглашалась туда лечь, а потом требовала объяснений в мазохистской любви. За последний год она еще и растолстела. Лицо стало круглым, а у подбородка (когда-то мне нравилась четкость его линии) повисла жирная складка. Веснушки на носу она старательно — как будто это что-то меняло — запудривала.
До Шенау мы доехали на дилижансе. Сельвин на все лето снял там виллу. Она располагалась на некотором возвышении от всей деревни. Салтана встала у окна. Я смотрел на ее спину. Рыжий шелк суженного платья вгрызался в жирные складки.
— Все дома кажутся глиняными игрушками, — сказала Салтана.
— Хочешь поиграть? — зачем-то спросил я.
Она повернулась ко мне. Я заметил, что в подмышках шелк ее платья потемнел, стал почти бурым. Салтана глядела на меня так, как она всегда на меня глядела. В рыбьих, почти прозрачных глазах, как рябь на озере, плескались надежда, недоумение и смутная гордость собой (решила, что я ее люблю?).
Я бросил шляпу на кресло. Оно нелепо стояло посреди комнаты в пыльном чехле. Рыжие завитки Салтаниных волос прилипали к потной шее. Молочная, с розовыми прожилками (она всегда напоминала мне сало) грудь тревожно вздымалась над корсетом.
— Ты видела столовую? — откуда-то из коридора спросил Сельвин.
Она раздраженно отвела глаза. Сорвала перчатки и вышла из комнаты. Я подошел к окну, где она только что стояла. Там сохранился запах: сладкий и сальный. Салтана злоупотребляла французским мылом.
Первую неделю в Шенау мы гуляли, ублажали себя изысканными кушаньями и катались на лошадях. Лошади были жирноваты. То ли их перекармливали овсом, то ли они мало двигались. Салтана сидела в дамском седле. Когда лошадь шла рысью, амазонка поднималась, и я видел ее ноги. Сквозь черный шифон они казались мраморными.
Салтана ловила мой взгляд. Победительно щурилась и вырывалась на своей лошади вперед. Сельвин несся за ней. Я оставался позади.
Через неделю я возненавидел альпийские пейзажи, Сельвина и Салтану. Мы встречались только за столом. Я уходил раньше всех — меня раздражало то, как они ели и разговаривали с набитым ртом.
Сельвин был очень рад тому, что я избегаю их общества. Высовывал свой унылый (мне хотелось выть на него, как на ущербную луну) нос из-за газеты, монотонно острил насчет «желтого мальчика». Салтана изнемогала от скуки. В компании Сельвина она влюблялась в меня все больше. Я спускался по лестнице, проходил через холл, где они пили херес. Она замолкала на полуслове. Рыбьи глаза становились влажными и безвольными. Салтана смотрела на меня. В такие моменты я мог сказать ей что угодно. Я мог подойти, задрать ей юбку и выпороть на глазах у Сельвина. Она наверняка была бы вне себя от счастья. Мазох мог ожить в коровьем Шенау. Я мог оказаться новым Мазохом.
Но я шел мимо. На ходу натягивая перчатки.