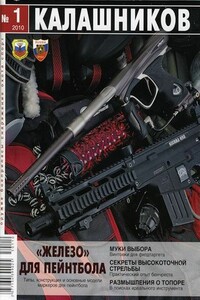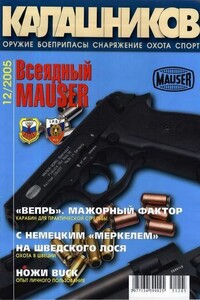Борис Хазанов
Сад отражений
Новелла
...Но, может быть, справедливо обратное.
Талмуд
Моя уверенность в том, что "сад" представляет собой литературное изобретение, глубокомысленную мистификацию в духе Вайолет Крейзи, Хорхе Борхеса и сонма их подражателей, была поколеблена после беседы с барышней из Бюро приватных услуг. Заинтригованный слухами, ссылками на людей, будто бы заслуживающих доверия, хотя на самом деле их сведения, в свою очередь, были получены из вторых рук, наконец, пробежав как-то раз глазами заметку в одном бульварном листке, из которой было видно, что автор сам толком не понимает, о чем идет речь, я решил выяснить, есть ли во всем этом хотя бы крупица истины. Сразу оговорюсь, что самое понятие истины подверглось при этом опасному испытанию, но это уже вопрос скорее философский.
К сказанному стоит кое-что добавить. Дело в том, что мною двигало не только любопытство. К некоторым замечательным чертам моей профессии - если можно ее называть профессией - принадлежат вечные неуверенность и сомнение, а именно - сомнение в ее пользе. Вечно ловишь себя на этой мысли: какого лешего? Стоит ли вообще продолжать? Кому все это нужно и так далее.
Вот уже тридцать лет я, по сути дела, ничем другим не занимаюсь, подчас живу впроголодь. Дошло до того, что однажды мне пришлось просить подаяние на вокзале. Пожалуй, я кое-чему научился: элементам ремесла, технике; научился отличать плохую фразу от хорошей. Но все отчетливей я сознаю, что делаю не то, что надо. Чем "лучше" я пишу, тем получается хуже.
Я держусь в стороне от литературной жизни, однако слежу за ней. Даже кое-что читаю. Бoльшая часть прозы, которая появляется в последнее время, вызывает у меня скуку или отвращение. Я хорошо вижу, что за редкими исключениями мои коллеги, отечественные беллетристы, даже даровитые, непрофессиональны, неумелы, глухи к языку, подвержены влияниям, от которых завтра не останется следа, порабощены сиюминутной актуальностью, наконец, малокультурны, плохо знакомы с новой европейской прозой и удручающе провинциальны. И я, словно стареющая кокетка, воображаю, что могу без труда перещеголять молоденьких провинциалок своими туалетами. Я ловлю себя на тщеславном желании противопоставить этим писателям настоящую литературу. Что же я могу им противопоставить? Хороший стиль, благозвучный язык, вкус, сдержанность, иронию, дисциплину.
Но все это не то - не то, что требуется от литературы. Я прекрасно вижу оборотную сторону этих аристократических претензий: безжизненность, академизм. Мой язык, заметил кто-то из критиков, это язык классических переводов, причем с мертвых языков. Однажды я написал рассказ из эпохи Древнего Рима, действие происходит в первом веке до нашей эры. Меценат приезжает в гости к Горацию. Они беседуют о литературе, с террасы открывается чудный вид, и вот выясняется, что поэт глубоко удручен: его стихи слишком совершенны. В них нет живой жизни, страсти, полета, они холодны и гладки, как мрамор. Он чувствует, что в своем классицизме, своем отчуждении от собственной личности потерял себя. Это автобиографический рассказ.
Короче говоря, меня измучило чувство, которое можно сравнить с тем, что психиатры называют деперсонализацией. Я тоже потерял себя. Я почувствовал, что нахожусь в тупике, а так как я не мыслю своего существования вне моего труда - правильней сказать, вне писательского зуда, - то, можете мне поверить, мысль о самоистреблении стала закрадываться в мою душу. Так заигрывают с наркотиком.
Стоя перед дверью с табличкой на площадке верхнего этажа, я думал: чем черт не шутит. Быть может, я на пороге небывалого приключения. Мне необходимо было встряхнуться. Я предполагал - по-видимому, без всяких оснований, - что Сад, если он в самом деле существует, наполнит меня, ну, скажем так, новым жизнеощущением. Промоет мне мозги, глаза, уши. И я смогу снова писать. Хотя, как уже сказано, я был почти уверен, что все эти слухи выдумка.
Итак, я разыскал бюро (мне посоветовали к ним обратиться). Мало ли на свете всяких диковинных контор? О характере и престиже этой лавочки можно было судить по зданию, в котором она помещалась. Облезлый дом на малопривлекательной улице в районе вокзалов. Вы топаете наверх (лифта нет) мимо бесчисленных вывесок, навстречу спускаются рабочие с письменными столами, с тюками бумаг, кто-то выезжает, кто-то въезжает. То, что я искал, находилось даже не на последнем этаже, а в надстройке, куда вела узкая лесенка. Звоню - никто не отзывается.
Следовательно, и Бюро приватных услуг было мистификацией; я почувствовал, что кто-то сознательно и планомерно водит меня за нос. Как вдруг мне открыли. Открыла, жуя и вытирая карминовый ротик, девушка лет двадцати, может быть, немного старше, с довольно безвкусной прической, очень хорошенькая. Когда я говорил о том, что разговор в Бюро рассеял мою неуверенность, я, конечно, имел в виду не секретаршу, а шефа. Но присутствие этого эфирного существа, как ни странно, вместо того чтобы заставить меня усомниться в компетентности учреждения, куда я попал, внушило к нему доверие. Она говорила с забавным саксонским выговором, который теперь уже не редкость услышать в наших краях. Приехала на Запад искать счастья.