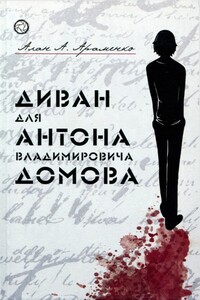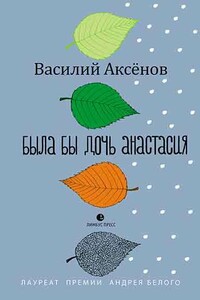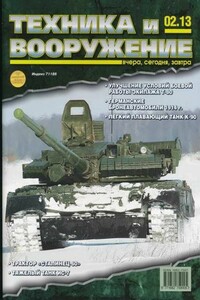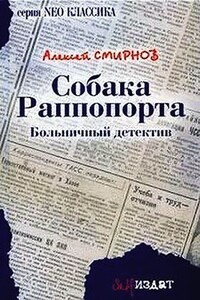Алексей Смирнов
Рувим, сын Рахили
Рувим, первенец мой!
ты - крепость моя и начаток силы моей,
верх достоинства и верх могущества.
Быт 49, 3
Лаван заступал дорогу. Держась нетвердой рукой за перила, Иаков собрался шагнуть, но тут из какой-то ниши, не распознанной в темноте, вынырнула приземистая, круглобрюхая фигура Лавана и встала на пути. Дядя много выпил и глупо хихикал, если можно назвать хихиканьем глухие, рокочущие, утробные звуки. Он подхватил Иакова под локоть и потянул к округлой каменной площадке, устроенной на один лестничный переход выше. Там было светлее. Пламя факела багрило и без того красную лысину Лавана, усыпанную дрожащими горошинами пота.
- Торопишься? - подмигнул Лаван. Он качнулся, попробовал рассмеяться громче, но закашлялся. От него пахло вином и луком пополам с неистребимым запахом скотного двора. - Торопишься... - ответил он сам себе, внезапно грустнея лицом. Глаза уставились в одну точку, нижняя губа чуть оттопырилась. Снизу доносился гул пиршества. Послышался звон - кто-то разбил кувшин - и пьяный гомон усилился. - Не спеши, мой мальчик, - продолжал Лаван. - Побудь с дядей... Куда тебе спешить? Или не терпится получить свое? Так здесь все твое, - и он описал мохнатой лапой преувеличенно широкую дугу. - Все, все, дорогой мой племянничек... А я зря не скажу. Я...
- Благодарю тебя, дядя, - отмахнулся Иаков, переминаясь. - Ты чересчур добр ко мне. Только я хочу всего лишь часть, и поскорее. - Лаван, посмеиваясь, снова качнулся сперва в одну, потом в другую сторону. - Ишь, ты! - и он сделал руками несколько шутовских пассов. - Какой горячий! - Он походил на укротителя строптивого скакуна, который крепко держит разыгравшегося коня и не подпускает слишком близко к себе. Иаков же был близок к умоисступлению - семь лет, показавшихся семью днями, все же оставались семью годами, и нынешним вечером никакое смирение, никакая кротость служения не могли не разрешиться внутренним взрывом. В довершение пытки он, сидя за свадебным столом, так и не смог увидеть лицо Рахили. Старинный обычай не принимался замутненным рассудком, приводил в бешенство. Выпитое вино - много вина - не опьяняло, но лишь доводило до неистовства бушевавшее в мозгу пламя. Руки тряслись, готовые сорвать покрывало с лица невесты, неподвижно сидевшей рядом. Чаша следовала за чашей, проглоченное вино заедалось кушаньями, что брались пальцами без разбора, и сейчас Иаков не смог бы припомнить, съел ли он хоть что-то вообще. Гвалт, чад, копоть, лица и тела сливались в ненавистную мамалыгу, и он увязал в ней, тонул, сжигал понапрасну, пытаясь выбраться, драгоценные силы, накопленные для... и теперь - дядя! запоздалое щупальце однородной, приземленной массы, стремящейся вверх по лестнице с целью затормозить его восхождение к тесной каморке, что тонет во мраке в невысокой башенке - там давно уже дожидается его Рахиль.
- Пусти! - Иаков с несвойственной ему грубостью оттолкнул Лавана и одолел сразу несколько ступеней одним прыжком. Лаван остался стоять, где стоял, глядя ему вслед. Вскоре он хмыкнул и пошел назад к гостям. На ходу Лаван потирал руки, предвкушая продолжение праздника. Он был неподдельно, искренне счастлив.
* * *
На пороге каморки Иаков остановился и позвал:
- Рахиль!
Ни в дверях, ни в самой комнатке не нашлось факелов, не горели светильники. Не было видно и окон, Иаков очутился в царстве жаркого, душного мрака.
- Рахиль!
Древним чутьем он угадал незримое легкое движение и стал продвигаться на ощупь. Волей-неволей ему пришлось простереть руки вперед, и вскоре они наткнулись на вздрогнувшее плечо.
- Рахиль, это я, Иаков, это твой Иаков, не бойся меня, - пролепетал он, хотя сам испытывал чрезвычайный страх и не смел поверить в реальность происходившего. Плечо робко придвинулось ближе, тогда Иаков сжал его, не заботясь о силе сжатия; рука его, не отрываясь, спустилась ниже и нащупала влажную кисть, перебрала четки суставов и тонких косточек. Когда же по их соединенным рукам хлынул ток, поразивший каждую клеточку их существ, страху и робости не осталось места.
Он не понял, почему пальцы его находят не ткань, но гладкую, без единой шероховатости кожу, и не знал, как и когда освободился от одежды сам. И, будь он спрошен Богом: "Откуда ты узнал, что ты наг?", он ответил бы: "Разве?" Их шепотная речь сделалась речью пращуров, непонятной слуху ныне живущих, говорящих на разных наречиях. Лестница, славой превосходящая все земное, вновь явилась внутреннему взору Иакова, она вырвалась на простор из ступеней, по которым он шел в башню, и в шуме крови, кипевшей в висках, он вновь расслышал обет умножить его семя наподобие морского песка. Молнией сверкнула мысль: "Здесь! Здесь и сейчас!" И он, позволив разуму осознать и запечатлеть величие происходящего, собрал, сконцентрировал в одной точке все, что хоть в малейшей степени имело отношение к его сущности; он призвал тени предков и воздал хвалу Единому, напитавшему его жизнь смыслом; он подвел себя к краю расступившейся бездны и с диким, победным воплем "Иосиф, сын мой!" - рухнул в нее, не слыша ответного крика, слившегося с его криком в один.

![Шпагат счастья [сборник]](/storage/book-covers/18/18210fd45f1eb70de7ae3f5db8a68688e42c2aa5.jpg)