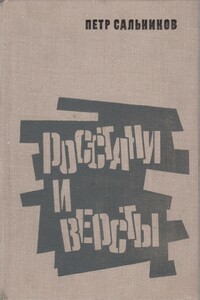АСТАПОВСКИЕ ЛЕТОПИСЦЫ
Повесть
...И да будет ему широка Россия!
Скиталец
Грачиная осень в астаповском окрестье видна и слышна далеко. Отлеты здешних птиц всегда печальны и красивы своей свободой и надеждой на возвращение. Отпевая лето, грачи кого-то кличут, с кем-то прощаются, ждут и радуются своему часу. Будто на грачиную покличку, сюда, на астаповскую станцию, сбегаются и тут же разбегаются поезда, люди. Не долга остановка, а силы нет усидеть в вагоне...
В задумчивости, пропуская вперед нетерпеливую молодежь, неспешно выходит старик. Слезно помаргивая, глядит на часы старого вокзала: «Слава богу — стоят».
Пять минут седьмого... Сами ли часы не пошли дальше, а может, кто остановил их — об этом никто никого не спрашивает. Так и кажется: не перевалило время через то печальное утро, не осилило переступить неминучую грань давнего людского горя. Как и прежде, здесь гудят поезда, суетится дорожная публика. И не каждому проезжему в диво — замершее утро на старинных часах вокзала. Но кто бывал здесь, тот не слышит ни поездных гудков, ни колготни пассажиров. Ему слышнее шум ветра, крики птиц окрестных полей, бой сердца. Роднее стучит оно, напоминая о былом, заставляя выйти, хоть на минуту, и преклонить колено у родимого причала.
Глух бетонный перрон под стариковскими шагами. Тосклив пристанционный сад в осеннем бреду. В реактивном гуле — оплывшие небеса над головой тоскуют о тишине, о покое... Летит с седины шляпа, и ветер катит ее к заветной скамейке под вязом, к порогу изрядно состарившегося Озолинского дома.
Старик присел на скамейку: как хорошо — будто и не покидал ни родного гнезда, ни любимого края! К ногам приветливо упала сорвавшаяся ветка. Еще раз глянул на часы, на молчаливую их бесконечность. Застонала потревоженная память.
...Подумать только, как давно это было — мыслью не окинешь. Нет, ровно вчера все содеялось... Это было...
Кондрат Востромилов, разгоряченный ходьбой, шумно ввалился в избу, стряхнул рукавицы под печку, словно пару ежей пустил, зажег гасничку на печном уступе и позвал сынишку:
— Антошка! Куда тя лихоманка упрятала? Игде ты?
— Тут я, — с полатей свесились заскорузлые, с лета не отмытые пятки, потом высунулась и мордочка — заспанная, извалянная в пеньку.
— Антон Кондратич, гони сон к ядреной бабке, слазь — сочинять будем!
Антону Кондратичу — лет десять, одиннадцатый год побежал... На том бегу спится мальчонке ночью, спится и днем. И потому никак не поймет: вечер сейчас или утро. На улице завывает тьма. Ветер во все дудки дудит, живым голосом наигрывает. Жутко лопочет он, по-человечьи. Слышно его в трубе, в окошки постукивает — в избу просится. Страшновато Антошке — на полати забрался. Уснул. А до утра ли доспал — не знает.
— Я те рубаху синюю куплю, с пояском, — сулит батька и переносит коптилку на стол. Язычок огонька чуть с фитиля не сорвался — так неровно Кондрат шагнул от печки. На лавку сел, а потом и на сундук потянуло — мягкая на нем дерюжка, сотканная когда-то руками Антошкиной матери. Паренек с надеждой захлопал глазенками — подвыпивший отец часто засыпал на той дерюге. И уж пятки было подтянул под себя. Но батька на этот раз и не думал спать.
— Синюю тебе надо! И штоб в обязательной натуре — поясок... Не рубаха это без пояска! — весело кипятился батя.
Кондрат поднялся, вынул из штанины смятый комок мелких кредиток и полез к образам. Выставил из святого угла ржаной сноп — дар новины, ступил на лавку и легонько приотворил стеклянную дверцу иконы. Положил деньги под святые копытца коня и в шутку погрозил всаднику, самому Георгию Победоносцу:
— На часах будь! На рубаху это!..
Ни разу еще не сулил батька синюю. Да еще с пояском. И розовую обещал, и кремовую, и какую-то атласную называл — помнит Антошка. Но чтоб синюю — нет!
Антошка спрыгивает с полатей, набрасывает дырявую шубенку на плечи и бежит греть руки над коптилкой.
Кондрат лезет в сундук, достает толстенную книгу из розовой бумаги, листает до чистого места и сует под нос озябшего Антошки.
— Сейчас, брат, нагреемся, — неуклюже суетится батя. Берет пузырек с окна, долго держит в горячих руках, отогревая чернильную ледышку в нем.
Писать все-таки придется, и Антошка нехотя принялся чистить перо о волосы. «Что нынче наскажет батя?» — метался в догадках ребячий умишко. Казалось, о всех и все давно писано-переписано. Тяжелела книга от людского горя, а когда избудется оно — неведомо деревенскому печальнику Антошке. Он придвинул книгу поближе, сунул перо в чернильный пузырь и замер в ожидании отцовских слов. Кондрат, размотав онучи и бросив в печурку лапти на просушку, стоял посреди избы и готовился сказать что-то очень важное. Высокий, здоровый в руках и плечах, он показался Антошке необычно беспокойным. Батя изумленно и широко смотрел на прикопченные иконы, на сынишку, на розовые листы книги. Порой чудилось Антошке, как в отцовских глазах то загорались, словно на барской елке, цветные свечи, то гасли они, когда опускал взгляд на свои огромные кулаки. Засучивая рукава и обнажая длинные узластые руки, отец словно готовился к схватке с кабатчиком, здешним, никем еще не битым силачом.