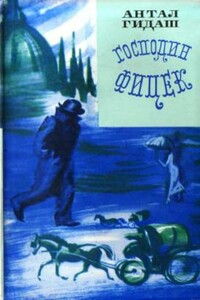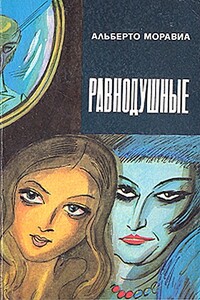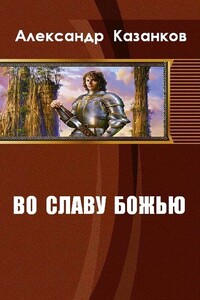РОМАН-ПЕСНЯ МИЛОША ЦРНЯНСКОГО
«Роман о Лондоне» Милоша Црнянского (1893—1977) приходит к нам с опозданием лет на двадцать, вливаясь в освежающий водопад отрешенной, отвергнутой литературы, художественной, историографической, мемуарной, философско-религиозной. Еще рано систематизировать все, что ранее было отвергнуто: всплывают не только отдельные книги, но и творчество крупных интересных писателей, даже целые литературные направления; всплывает и тайно хранившееся в пределах отечества, и созданное за его рубежами. Однако предварительно, грубо все это богатство можно разделить, разграничить на два потока: во-первых, русскоязычное и, во-вторых, зарубежное, переводное, от романов великого Франца Кафки до «Улисса» Джеймса Джойса. Немецкоязычное, англоязычное… И тут же — родная славянская речь, сербскохорватский язык «Романа о Лондоне».
Законченный в 1971 году, он увенчал собой творчество одного из выдающихся писателей Югославии; он был тепло принят на родине, его обсуждали, широко комментировали. «Но у вас эту книгу никогда не опубликуют, — говорили мне коллеги, литературоведы из Сербии. — Ни-ког-да!» И ее в самом деле придерживали, отодвинув в группу книг, о существовании коих почему-то принято было помалкивать; они были, но их как бы вовсе и не было; говорить о них не возбранялось, но о них говорилось только в узком кругу: в сугубо специальных монографиях, в закрытых обзорах и в неудержимом потоке кандидатских и докторских диссертаций. Так и стал роман Црнянского каким-то романом для диссертаций, романом-фантомом: он есть, но его одновременно и нет. Но сейчас, вопреки прогнозам пессимистически трезвых умов, входит он в кругозор всех тех, кто говорит и читает по-русски. И читать его будут, наверное, недоуменно пожимая плечами: «Хороший роман, а что в нем могли усмотреть крамольного, ей-богу же, непонятно!» Действительно, что?
Всего прежде роман Црнянского будит мысли о славянском единстве. Не новы они. Их вынашивали Пушкин и Лермонтов, Достоевский, Гоголь, мыслители-славянофилы. Возрождаются они и теперь, хотя, думается, возрождаются чересчур умозрительно. Их высказывают не без надрыва, почему-то предпочитая изъясняться причудливой ритмической прозой; но высказывают их без оглядки на контекст современной реальности. Отрицать насущность славянского единства немыслимо, ностальгия по нему органична, она исторически обоснованна, но существенная сложность заключается в переходе от мечтательных воздыханий к делу: усложненная и интернационализированная экономика, многообразие производственных, коммерческих и культурных связей, из которых немыслимо выделить, вычленить связи чисто славянские. Собирается, скажем, всемирный конгресс — назову наугад — онкологов: англичане, американцы, аргентинцы, итальянцы, испанцы, казахи, узбеки, монголы, японцы. Среди них, разумеется, — и русские, и украинцы, и сербы, и поляки, и болгары, и чехи. Как, однако, выделить их в какую-то отдельную группу? На каком основании? А ведь рядом — такие же конгрессы математиков разных специальностей, съезды физиков, химиков. И чем русский компьютер отличается от японского? Или украинская технология производства какой-нибудь сложной машины от китайской или английской технологии ее производства? Не приходится ставить под сомнение идею славянского единства как таковую; возражения могут вызвать лишь призывы к ее претворению в жизнь без оглядки на окружающую реальность, к повторению догмы там, где люди стоят перед сложной проблемой. А к тому же еще…
По идее славянского единства наносился один удар за другим: русофильский, пронизанный любовью к России роман Милоша Црнянского повествует о первых послевоенных годах, и герои его в числе прочих своих житейских забот занимаются подготовкой к встрече нового года, года 1947. А пройдет совсем мало времени, и разразятся события грандиозной ссоры СССР с Югославией: вдосталь было злобных распеканий за непокорность, обнаружения фантастических связей, якобы бывших у героев-партизан с английской и с американской разведкой. Не дать людям жить так, как они хотят: вечно лезть в их дела, поучать, вразумлять, разоблачать и без конца угрожать — это было государственной установкой, стилем, занятием, обволакивающим умы и безмерно искажавшим идею, угаданную еще Достоевским, выношенную им русскую идею, идею всепонимания и спокойной гармонизации мира. А потом — Чехословакия 1968 года, косые взгляды в сторону мятущейся Польши. Да, ущерба идее славянского единства напричиняли немало. И то, что она все же выжила, лишний раз говорит о ее насущности: политические нелепости она претерпела; при закономерной интернационализации социального и индивидуального быта она тоже найдет свое место. По крупице, по камешку славянское единство будет все же укрепляться и далее; и роман Црнянского оказывается свидетельством неуклонного стремления к его укреплению.
Црнянский был переменчив: в жанрах, в мыслях и в настроениях. Он мог быть и скептиком. Мог иронизировать над собою самим. Но идея единства славянского остается святыней, которой он служит так преданно, как может служить только подлинный рыцарь-художник. И две книги романа «Переселение» остаются бесспорным тому свидетельством: Россия для героев этого, относительно раннего романа Црнянского — земля обетованная, вторая их родина, на лоно которой они пролагают себе пути. Но там, в этом романе, действие происходит в XVIII веке, когда все было проще: не было нарастающей интеграции национальных культур, полнокровно жило единоверие и православие служило для западных и восточных славян несокрушимою духовной основой.