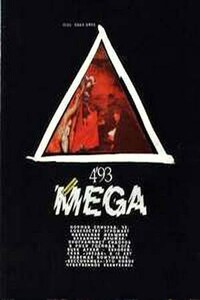Колючий клубок белого света так и висел, запутавшись в ветвях, а значит, был не бортовым огнем, как подумалось поначалу, а звездой. Или планетой.
Но до чего же, зараза, яркая!
Потому что здесь нет светового сора. Даже к железной дороге, если пехом, только к утру выйдешь. Зато полно грибов и ягод, чистая холодная речка, дружелюбные поселяне. Правда, дружелюбные поселяне только вон в тех домах, а сколько пустых домов, еще крепких, и с этим надо что-то делать.
Человек энергичный и с коммерческой жилкой (когда-то таких называли деловарами), Ванька-Каин, оказался в душе романтиком: деревня должна была стать местом для своих. Если уломать людей с именем, подтянутся и всякие снобы, ну те, которым важно говорить, я живу рядом с таким-то, знаете такого-то? Место станет модным, можно будет вложиться в обустройство, в городе уже давно жить невозможно, а тут можно работать удаленно и вообще… Короче, все, о чем говорят деятельные и деловитые в предчувствии всеобщей гибели городов. Непонятно только, опасался Ванька всеобщего обрушения, или напротив, тайно его жаждал; оно стало бы оправданием его хлопотам и страхам.
Никого с именем уговорить не удалось, и крепкая изба на пригорке досталась им с Джулькой. Теперь Ванька-Каин будет рассказывать потенциальным покупателям, мол, вон там, на пригорке, профессор с женой живет, из Америки приехали.
Ему-то на самом деле нужна была всего-навсего недорогая однушка в пределах кольцевой, но цены, пока он болтался по заграницам, взлетели до небес. Хуже чем в Нью-Йорке, ей-Богу!
Комар зазвенел над ухом. Он машинально отмахнулся ладонью.
Пахло сырыми тряпками. От матраса на железной кровати с панцирной сеткой и тронутыми ржавчиной латунными шишечками, от кухонного полотенца, от его собственной куртки, даже от спальника, который никак не должен был отсыревать, потому что был waterproof и к тому же какой-то хитрой дышащей системы.
А ведь в Штатах его раздражал этот их всепроникающий запах стирального что ли порошка с отдушкой, какого-то моющего средства, пропитавшего даже гудрон велосипедных дорожек. Глядел на аккуратные газончики, утыканные, как столбиками, наглыми серыми белками, ненавидел пластиковую траву, грозные таблички «No smoking!» и истеричное стремление к чистоте.
К тому же он привык улыбаться. Толкнули в маршрутке, улыбнулся, сказал «извините», и тот же самый, что его толкнул, вместо того, чтобы улыбнуться в ответ, сказал, ты что, совсем мудак? Он так удивился, что опять сказал «извините», простить себе этого до сих пор не мог, надо было сходу в рыло. Стал, чуть что, сам посылать, агрессивно, с напором, и легче сразу сделалось.
А Джулька, дурочка, так и продолжала улыбаться. Джулька, впрочем, человек легкий. Ах, я так себе все и представляла! Look here, izba (только американская славистка умудрится так смешно и торжественно, так трогательно произнести слово «изба») из настоящих breven, серо-бурых, местами даже зеленых! Настоящая русская petch, только подумай!
Печь не хотела растапливаться, дым валил в комнату, позвали Ваньку-Каина, он позвал дядю Колю (в каждой деревне есть такой дядя Коля, молчаливый, небритый, почти беззубый, неопределенного возраста, в чем-то сером и пахнущем сырыми тряпками). Тот, вылез на крышу, поковырялся в трубе, а потом показал им темное, оказавшееся мертвым грачом. Растрепанные перья, сухие косточки. В останках птицы было что-то изначально неживое, словно распавшаяся плоть обнажила искусственный каркас.
Много жизни, и вся какая-то механическая. Комары, зудевшие на одной высокой ноте; златоглазки, с тупым упорством бившиеся о стекло, ночью пытаясь влететь в освещенную комнату, а утром — вылететь наружу; и еще кто-то невидимый, тикающий прямо над ухом в глухую ночную пору…
Но печки он стал опасаться. Тем более, как Джулька ни старалась, все получалось либо сырым, либо подгоревшим… С электроплиткой на две конфорки она справлялась не в пример лучше, а вечерами они включали масляную батарею, вечера тут холодные даже летом. Но как следует просушить, прогреть дом так и не удалось, сырость оставляла ощущение нечистоты, словно бы все было захватано липкими пальцами.
Это такой отпуск, говорил он себе, вытягивая из колодца серое оцинкованное ведро, стены сруба были скользкими, и вода тоже как бы скользкой, с душком.
Вечером обедали у Ваньки-Каина. Ванька тоже был женат вторым браком, на бывшей своей практикантке, коренастой, круглоголовой, темноволосой — есть такой тип московских женщин, к ним с самого их девичества друзья обращаются «мать». Ему-то такие, скорее, нравились, была в них надежная неброская женственность, но Джулька с новой Ванькиной женой не подружилась, хотя обе старались, он видел.
— Бабы-дуры, — сказал Ванька, когда он мимоходом пожаловался, что, мол, не ладится что-то у девок, и это плохо в перспективе.
Ванька-Каин имел мечту собрать здесь на Рождество друзей и всех их и своих детей от прежних браков, новых жен, старых жен; пока же занимал себя тем, что ремонтировал второй принадлежащий ему дом, который он купил, именно чтобы было куда селить гостей. И чтобы шашлыки на морозе, святки, горелки и что там полагается, и всем хорошо и весело.