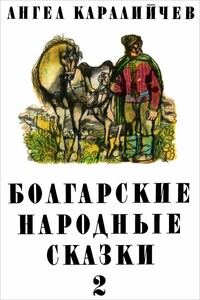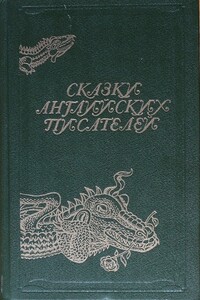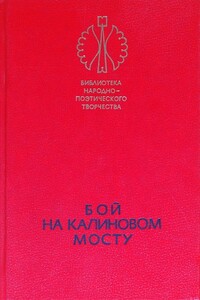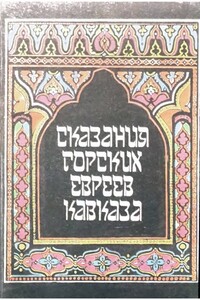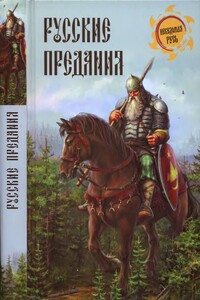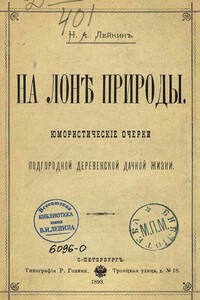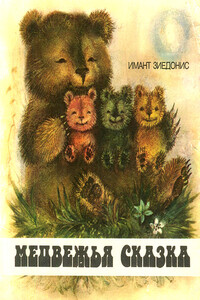Вчера выпал первый снег. И кругом все белым-бело. До того бело, что и не разберешь где что. Белая курица снесла белое яйцо, обронила в снег и никак не отыщет. Белохвостый петух выкукарекал белую песню. Взлетела она под стреху, примерзла во-он там: видишь, висит белой сосулькой? У белки-белянки выбельчились бельчата, прыгнули на белые ветки — белка их и потеряла. Деревья стоят белые-пребелые. Бреду я по лесу, не могу разобрать: где дерево, где пень, а где белый день.
Над трубами курится белый дымок. Чернила в чернильнице тоже побелели — даже и не знаю, разберешь ли ты, что здесь написано. Хлеб мы едим только белый и забеливаем кофе сливками. Собрался я утром почистить башмаки, а вакса-то белая!
Вот и наша Гауя[1] — под снегом белая, под солнцем ясная. Забросил я спиннинг, вытащил белорыбицу, вспорол ей брюхо, а там — белый утенок (целиком проглотила — какова обжора!). Воткнул я в утячий хвост вот эту писульку и отпустил утенка — пускай его летит! А залетит к тебе, ты накорми его, обрежь кончики крыльев — не то упорхнет! — и согревай ему по вечерам живот белой грелкой. А когда он снесет золотое яичко, сразу же черкни мне.
Адрес у меня такой:
Белому Кроту с берегов Гауи.
P. S. А неохота писать, так нарисуй. Только — чур! — одной белой краской, без единой черной черточки.
Солнце, точно яичный желток, золотелось над миром. Оно излучало тепло и жизнь. По его лучам соскакивали на землю крошечные цыплята — и все желтые. Это уже потом они обзаведутся разноцветными одежками, а поначалу все — в желтом. Пчела тоже желтая: вон какой у нее желтый улей. Пригласила она в гости цыплочка, а тот не смог до улья допрыгнуть. «Ну, ничего, — думает. — Вон сколько кругом бабочек, все, как я, желтые. Полетаю-ка с ними». Подпрыгнул цыпленок, да вспомнил: крыльев-то еще нет, одни только крошечные желтыши по бокам. «Ну, ничего, — думает опять. — Стану курицей, захочу — до неба взлечу». А пока забился в мамокурицыны перья, поближе к ее желтому животу, и задремал.
А солнце золотело в небе, точно желтый блин с такими вкусными хрустящими закраешками.
Пчелы — точь-в-точь крошечные комочки пластилина — перелетали с одуванчика на одуванчик, а оттуда — прямиком в свой желтый улей. Только это будто и не улей, а огромная желтая библиотека. Рамки для сот — большие книжные полки и до самого потолка заставлены сотами. Да и соты — вовсе не соты, а крошечные желтые шестиугольники-телевизоры, где вместо экранов посверкивает желтый мед.
Снаружи до самого горизонта виделись желтые-желтые поля и луга, сплошь в желтоцветах, мать-и-мачехе. И видимо-невидимо одуванчиков. Все пригорки в сплошных желтых переливах. Да и само солнце, если приглядеться, сияло так, будто оно только что лежало на этой вот горке и вывалялось в желтых одуванчиках. А луг до того сверкал, что я не выдержал и тоже повалился в эту желтизну. И всего меня тут же дожелта осыпало, запорошило и облепило пыльцой.
Прибрела желтобрюхая корова, приняла меня за желтый одуванчик да и сочмокала-сжевала меня.
Оттого и не могу писать дальше.
А я его видел. Он скакнул прямо на сковородку, такой крошечный и коричневый человечек — и как зациркачит, как заскачет по коричневой поджаристой картошке! Как закричит: «Готово! Поспело! Покоричневело!» Едва я поперчил картошку, как он чихнул и пропал.
Считанные счастливчики, которые видели его, в один голос говорят, что это — такой крошечный коричневый человечек, что он всегда там, где что-то готовится, жарится, допекается и дозревает. Кричит он всегда только три слова: «Готово! Поспело! Покоричневело!» И все сразу румянится, зреет, буреет, смуглеет и коричневеет. Редко кто видел его: для этого нужно большое терпение. Но мне так захотелось снова увидеть его! Но где?
Где? Да там, где завелось что-нибудь коричневое. Наверняка, думаю, отыщу его возле боровиков. А я знал, что боровики вылезают из земли белы-белешеньки и только потом — непонятно как — коричневеют. Вот возле них-то, думаю, и крутится коричневый человечек.
Наутро чуть свет уселся я на самом подходящем для боровиков месте — под коричневой сосною. Жду. Вот-вот боровичок появится. Так и есть — вылезает. Шапчонка белая. Ну, теперь-то я ни за что с него глаз не спущу. Сейчас сам коричневый человечек пожалует. Жду, жду — никого нет. Жду, жду…
И тут кто-то чихнул. Ух ты, как напугал! А это заяц чихнул. Не успел я на него оглянуться, а боровик уже готов — шапчонка покоричневела. Значит, коричневый хитрячок и тут меня перехитрил.
Ну, ничего. Уставился я на другой боровик. Во все глаза гляжу. Так и сижу — гляжу-гляжу-гляжу, гляжу-гляжу-гляжу, гляжу-гляжу-гляжу… Хруп! Коричневый муравьишка ногу подвернул. Хромает, хро-мает-мается. Как не пожалеть хромоножку? Пока вправлял ему ногу, боровик опять покоричневел! Наведался сюда коричневый человечек и пропал как невидимка!
Ну, ничего, думаю. Я вот что сделаю: спрячусь-ка в дырке, которую червяк в боровике прогрыз. Задумано — сделано. Залез, притаился. Жду. Тсс, идет! Он на гриб забирается, а я — скок! — к нему! А он — скок! — от меня! В бруснику — и след простыл…