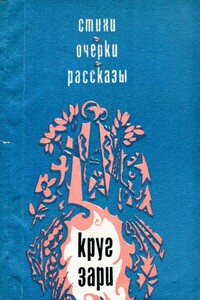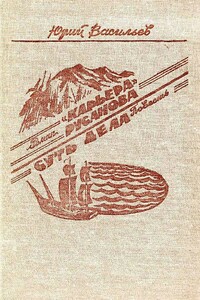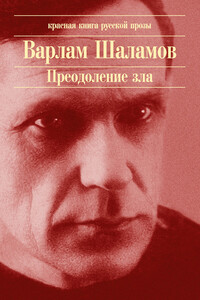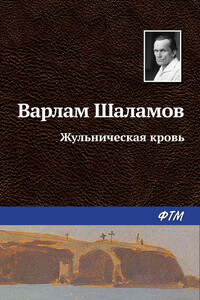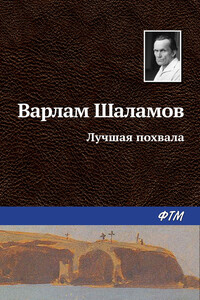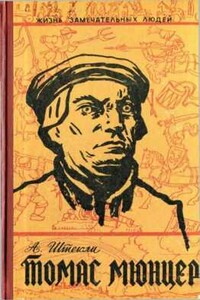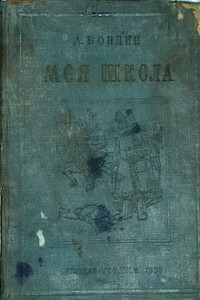Удивительный человек был у меня отец. Бывало, как наступит страдное время, начнет он собираться на покос, будто переселенец на новое место жительства. В день отъезда выпросит у кого-нибудь лошадь, запряженную в колымагу, и станет складывать свои пожитки. Прежде всего — самовар. Ну, к чему самовар в лесу, когда кипятить воду можно на костре в железном чайнике? И чайник есть. Так нет. Иначе он никак не хотел пить чай на покосе, как только из самовара.
На покосе у нас была избушка. Ночи в страдное время теплые, короткие, а он обязательно забирал с собой железную печку, лампу, бидон с керосином, да к этому еще овечий тулуп, одеяло, полог и валенки. Словом, полдома везет с собой в лес. Вот и едем,— точно цыгане переезжают табором с места на место.
Я часто недовольно говорил отцу:
— Ну, к чему все это?
— Не твое дело. Мал ты еще нос свой в каждое место совать,— отвечал он.
Мать тоже иной раз была недовольна, но она всегда старалась шуткой убедить отца:
— Отец, а утюги возьмем?
Отец молчал, сопел, но свое дело делал.
Однажды мать, глядя на ворох пожитков в колымаге, с насмешкой сказала:
— Кадку бы надо взять да корыто, я бы там хоть белье постирала.
Отец вопросительно посмотрел на нее и, подумав, проговорил:
— Правильно, кадку взять надо.
Мать перепугалась:
— Что-о?
— Взять, говорю, надо кадку, а вдруг грибов много будет. Солить там будем.
И вот на этот раз с нами поехала на покос и кадка в десять ведер, а в ней уютно уместился мешок с солью.
На покос уезжали надолго, дней на семь; если же была плохая погода, то жили там дней десять, а то и все двенадцать. Домовничать оставалась бабушка.
Мне было жаль этой доброй старушки: она была большая любительница чая, а без нас из-за отсутствия самовара кипятила воду в глиняном горшке или в чугунном котелке.
Мне не очень-то сладки были эти поездки. Правда, я любил жить на покосе, но вот такие переезды для меня были большой заботой. Как приедем, бывало, к месту сенокоса, разгрузим колымагу, я должен отвести лошадь хозяину и потом на покос идти обратно пешком километров пятнадцать. Шутка в деле, да еще с грузом! Ни разу не бывало так, чтобы все было предусмотрено, ничего не забыто. То забудут соль, то мешок с картошкой, то бутыль с квасом (а в бутыль входило квасу больше полведра), а то бабушка проявит заботливость — нагрузит две-три ковриги хлеба. У нее была на этот счет своя установка:
«В лес идешь на день, а хлеба бери на неделю».
И вот тащишь все это на себе, обливаешься потом, проклинаешь покос, жару и думаешь: «Эх, хоть бы похолодало». Обгоняет по дороге кто-нибудь на лошади, попросишь:
— Дядя, подвези!
А дядя усмехнется только. Вместо того, чтобы посадить, он еще подхлестнет лошадь и укатит. А иной оскалит зубы и бросит:
— Садись, где стоишь.
Приплетешься кой-как до покоса, уж под вечер, и грохнешься на траву. Думаешь отдохнуть, а отец литовку в руки подаст и прикажет:
— Обкашивай возле кустов траву, пока роса.
Или:
— Запасай-ка дров к ночи для печки.
А к чему дрова? Ночи теплые, на нарах сено. Есть тулуп, одеяло. Накройся — и никакой печки не надо. Дома спим же летом на сеновале. Нет, отец обязательно вечером печку железную затопит. Да так накалит, что дух вон от жары. А ему хоть бы что, лежит себе, покряхтывает да почесывается. Мать скажет иногда:
— Ну к чему ты, отец, печку-то нажариваешь?..
— В балагане да без печки, что за мода?..
— Да ведь жарища,— дышать нечем.
— Ничего-о, пар кости не ломит!
Оно верно — не ломит, да разопреешь, как паренка в горшке. Выйдешь спать на волю, устроишься где-нибудь под елочкой — хорошо! Воздух чистый, ароматный — лесной. Лес дремлет. В небе звездочки, редкие, далекие, ласково светят, луна выплывет над лесом, обольет все голубовато-мглистым светом, над поляной паутиной повиснет туман. Пахнет свежим сеном. Где-нибудь в черной глубине леса крикнет сыч, а то птички зашумят, встревоженные хищным зверьком.
Один раз в такую лунную ночь видел я, как тихонько через полянку шла лиса. Осторожно, с опаской. Хвост свой пушистый приподняла немного, чтобы не замочить росой, и бережно несет его. Ну разве возможно уснуть! Всю ночь вот так лежал бы. Так нет, комары покоя не дают, будто горстями кто в лицо их бросает. На лбу шишки, на щеках волдыри, затылок вспух. Закроешься пологом, так и тут от них спасу нет и под полог заберутся, проклятые, и поют:
— Дру-у-у-уг! Ку-у-ум!
Хороши друзья, хороши кумовья, чтоб им пусто было!
И вот вертишься, вертишься и думаешь уж не о природе, а об этих комарах. Чуть не заплачешь и уйдешь обратно в избушку, а там, как в бане. А отец спит себе и хоть бы что. Утром посмотрит на меня, да еще посмеиваться начнет:
— Ладно тебя комары-то разделали, под, орех да с дегтем. Изукрасили!
Отца моего ничем не убедишь, человек он был упрямый. Ведь и ему эти комары иной раз надоедали. Он был набожный, на покос икону брал с собой.
Повесит ее на березку и молится. Шепчет молитвы: «Господи, исусе христе», а сам зевает, спину почесывает. А то комара или слепня на лбу пришлепнет и выругается без всякого стеснения и опять, как ни в чем не бывало, молится.
Подшутил же я над ним один раз. Вышел вечером из избушки. Тихо кругом, тепло и облачно; вечер такой темный. Комары на этот раз особенно злющие были,— нигде от них не найдешь спасения. И так гудят, будто в лесу, во всех концах, самовары закипают. Смотрю я, под березой, где икона висела,— огонек поблескивает. Светлячок зеленый звездочкой сияет. Днем посмотришь на него,— просто червячок, серенький, невзрачный. Иной раз много их в пеньках. А вечером далеко видно, как эти чудесные огоньки светятся, словно стайки звезд в небе. Взял я светлячка, положил на верхний край иконы и позвал мать: